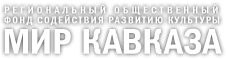Родился 6 марта 1929, Сухум, Абхазия.
Рассказы
Дедушка
Мы с дедушкой на лесистом гребне горы. Жаркий летний день, но здесь тенисто, прохладно. Земля покрыта толстым, слабо пружинящим слоем прошлогодней листвы. Тут и там разбросаны сморщенные ежики кожуры буковых орешков. Обычно они пустые, но иногда попадаются и с орешками. Вокруг, куда ни посмотришь, мощные серебряные стволы буков, редкие кряжистые каштаны.
В просвете между деревьями, в дальней глубине — голубой призрак Колхидской долины, огражденной стеной моря, вернее, куском стены, потому что все остальное прикрывает лес.
Дедушка стоит на обрывистом склоне и рубит цалдой, остроносым топориком, ореховый молодняк — то ли для плетня, то ли для новых виноградных корзин. Время от времени он забрасывает наверх подрубленные стволики, я их вытягиваю на тропу и собираю в кучу.
Воздух леса пронизан беспрерывным щебетом птиц. Голоса их только сначала кажутся пеньем, а потом начинаешь чувствовать, что они переговариваются, перекликаются, переругиваются, пересмеиваются, а то и просто перемигиваются.
Иногда со стороны моря доносится какой-то случайный порыв ветра, и тогда тени на земле дробятся, расходятся, между ними пробегают солнечные пятна, а птичий щебет усиливается, словно порыв ветра стряхивает его с деревьев, как дождинки.
Но все это мне скучно, неинтересно. Я стою и жду дедушку. В руке у меня его палка, самодельный посох. Странный он какой-то, мой дедушка. Интерес к нему у меня время от времени вспыхивает, но тут же гаснет. Таинственные следы его долгой-предолгой жизни в самый тот миг, когда, как я надеюсь, они должны привести к военной тропе абрека, неожиданно сворачивают в вонючий козлиный загон или на пахотное поле. Но что-то в нем есть такое, что вынуждает окружающих уважать его, и это уважение мешает им жить так, как они хотят, и они за это его часто ругают.
Все это я вижу и улавливаю детским чутьем, хотя, конечно, объяснить и понять не могу.
Сейчас мы в лесу. Он рубит ореховые прутья, а я смотрю. Рубить ему неудобно, потому что он стоит на обрывистом склоне, а заросли лесного ореха, обвитые густыми плетями ежевики, пониже, до них трудно дотянуться. Иногда, чтобы дотянуть топорик, нужно перерубить целое проволочное заграждение ежевичных плетей. И он перерубает.
Каждый раз, когда он берется за новое препятствие, мне хочется, чтобы у него не получилось. Это потому, что мне скучно и мне хочется посмотреть, что дедушка будет делать, если у него не получится. Но не только это. Я чувствую, что окружающим не хватает примеров дедушкиного посрамления. Я чувствую, что, будь их побольше, многие, пожалуй, решились бы относиться к нему без всякого уважения, и уж тогда им ничего не мешало бы жить так, как они хотят. Я чувствую, что и мне было бы полезно иметь при себе такой примерчик, потому что дедушка и меня заставляет иногда делать что-нибудь такое, чего я не хочу делать, да и взрослым, я чувствую, если при случае бросить в копилочку такую находку, будет приятно. Это все равно, что я подымусь до их уровня, докарабкаюсь, да еще не с голыми руками, а с похвальным примерчиком дедушкиного посрамления, зажатым в старательном кулаке.
Дедушка приканчивает ближайшие заросли и теперь дотягивается до новых, но дотянуться трудно, потому что склон крутой, сыпучий и ногу негде поставить.
Дедушка озирается. Не выпуская из руки топорика, утирает пот с покрасневшего лица, неожиданно пригибается и всей пятерней левой руки ухватывается за одинокий куст рододендрона. Обхватив клешнятыми пальцами все ветки, он натягивает их в кулаке, как натягивают поводья, и теперь уверенно свешивается в сторону свежих зарослей. Небольшого роста, гибкий, сейчас он похож на ладного подростка, решившего побаловаться над обрывом.
Прежде чем добраться до зарослей, ему нужно перерубить толщиной с веревку ежевичную плеть. Я всем телом чувствую, до чего ему неудобно стоять, свесившись на одной руке, и вытянутой другой, едва доставая, тюкать по упругой ежевичной плети. Топорик все время отскакивает, да и удар не тот.
— Дедушка, не перерубливается, — говорю я ему сверху, давая ему возможность почетного отступления.
Дедушка молча продолжат бить по пружинящей плети, а потом говорит, сообразуя свой ответ с ударами топорика:
— Перерубится... Куда ей деться? Перерубится...
И снова тюкает топорик. Я смотрю и начинаю понимать, что в самом деле некуда ей деться. Если б она могла куда-нибудь деться, может быть, дедушка и не угнался бы за ней. А так ей некуда деться. А раз некуда деться, он так и будет ее рубить целый день, а то и два, а то и больше. Мне представляется, как я ему сюда ношу обед, ужин, завтрак, а он все рубит и рубит, потому что деться-то ей некуда.
И ежевичная плеть, кажется, тоже начинает понимать, что она напрасно сопротивлялась. С каждым ударом она все меньше и меньше пружинит, все безвольней опадает под топориком, следы от лезвия все глубже входят в нее. Сейчас она распадется. А дедушка все рубит и рубит. Теперь я надеюсь, что дедушка, не рассчитав последнего удара, шлепнется сам или хотя бы врежет лезвие топорика в каменистую землю. Но плеть распадается, дедушка не падает сам и топорик успевает остановить.
Мне скучно, а тут еще комары заедают. Я босой и в коротких штанах, так что они мне все ноги обкусали. Время от времени я до крови расчесываю укусы или бью по ногам хлесткой веткой ореха. Ветка обжигает ноги. Я хлещу и хлещу их с каким-то остервенелым наслаждением.
Потом я забываюсь и начинаю выслеживать отдельных комаров. Вот один сел мне на руку. Слегка поерзал, прилаживаясь к местности, высунул хоботок и стал просовывать его между порами. Хоботок сначала даже слегка загнулся — видно, не туда попал, но потом дошел до крови и тоненькой болью притронулся к ней.
И вот он сидит на моей руке и посасывает мою кровь, а я все терплю, сдерживаю раздражение и смотрю, как постепенно у него живот розовеет от моей крови, раздувается, раздувается и делается багровым. Но вот он с трудом вытаскивает свой хоботок, растопыривает крылья, словно сыто потягивается, готовясь улететь, но тут я его — хлоп! На месте зудящей боли кровавое пятнышко. Вот он, сладостный бальзам мести! Я размазываю, я втираю труп врага в рану, нанесенную им.
Но иногда, стараясь сделать бальзам мести еще сладостней, я слишком запаздываю с ударом, и комар преспокойно улетает. И тогда в ярости я хватаю ветку и изо всех сил нахлестываю свои ноги — пропадите вы пропадом, паразиты!
Дедушка замечает, как я отбиваюсь от комаров, и я чувствую, что на губах у него промелькнула презрительная усмешка.
— Знаешь, как больно, — говорю я ему, уязвленный этой усмешкой, — тебе хорошо, ты в брюках...
Дедушка, усмехаясь, вытягивает из кустарника подрубленный стебель. Тот сопротивляется, гнется, путается ветками в колючках ежевики.
— Как-то приходит Аслан, — начинает дедушка без всякого предупреждения, — к своему другу. Видит — тот лежит в постели.
«Ты что?» — спрашивает Аслан.
«Да вот ногу мне прострелили, — отвечает друг, — придется полежать...»
«Тьфу ты! — рассердился Аслан. — Век не буду в твоем доме. Я думал, его лихорадка скрутила, а он улегся из-за какой-то пули».
И ушел.
— Вот какие люди были, — говорит дедушка и перебрасывает мне длинный зеленый прут, — а ты — комары.
И снова застучал топориком. Ну что ты ему скажешь? Ну хорошо, думаю я, я знаю, что раньше в наших краях бывала такая лихорадка, что люди от нее часто умирали. Но почему человек, которому прострелили ногу, не может полежать в постели, пока у него рана не заживет? Этого я никак не могу понять. Может, этот самый Аслан знаменитый абрек и ему что градина по голове, что пуля — один черт.
— Дедушка, он что, был великий абрек? — спрашиваю я.
— Ты про кого? — оборачивает дедушка ко мне свое горбоносое, немного свирепое лицо.
— Да про Аслана, про кого еще, — говорю я.
— Какой он, к черту, абрек. Он был хороший хозяин, а не какой-то там абрек.
И снова затюкал топориком. Опять какая-то ерунда получается. По-дедушкиному выходит, что абрек, то есть герой и мститель, хуже какого-то хозяйчика.
— Да ты сам видел когда-нибудь абреков?! — кричу я ему.
С дедушкой я говорю почти как с равным, словно чувствую, что мы с ним на одинаковом расстоянии от середины жизни, хотя и по разные стороны от нее...
— Чтоб ты столько коз имел, сколько добра они у меня пережрали, — отвечает дедушка, не отрываясь от своего дела.
— Да на черта мне твои козы! — злюсь я. — Ты лучше скажи, за что ты не любишь абреков.
— А почему они у меня сарай сожгли?
— Какой такой сарай?
— Обыкновенный, табачный...
— Да ты расскажи по порядку...
— А что рассказывать? Нагрянуло шесть человек. Три дня их кормили, поили. Прятались в табачном сарае. А на четвертую ночь ушли и сарай сожгли.
— А может, они от карателей следы заметали, — говорю я.
— Да они сами хуже всяких карателей, — отвечает дедушка и сплевывает, — из-за них нас чуть не выслали...
— Почему? — спешу я спросить, чтобы он не останавливался.
— Потому что старшина на сходке в Джгердах объявил, что мы прячем абреков и нас надо выслать, чтобы абрекам негде было прятаться...
— А почему он сказал, что вы прячете абреков?
— Потому что мы их в самом деле прятали, — отвечает дедушка просто.
— Ну а дальше, дедушка?
— На этой самой сходке была моя мама, но старшина ее не заметил, потому что она подъехала попозже. Как только он сказал такое, моя мама, расталкивая сходку, подъехала к нему и давай давить его лошадью и лупцевать камчой, да еще приговаривая: «А ты видел, как мой сын прячет абреков? А ты видел?!»
Трое мужчин еле-еле ее остановили, отчаянная была моя мама.
— Но, дедушка, ты ведь сам сказал, что вы прятали абреков?
— Мало что прятали... Все знали, что прячем. А почему? Потому что живем на самом отшибе. Вот они к нам и приходили. А по нашим обычаям нельзя не впустить человека, если он просится к тебе в дом. А не впустишь, будет еще хуже — или тебя пристрелит, или скотину уведет. Так что выходит — лучше абрека впускать в дом, чем не впускать.
— Дедушка, — прерываю я его, — а как старшина узнал, что у вас бывают абреки?
— Все знали. Да разве такое скроешь? Но одно дело узнать, а другое дело об этом на сходке говорить. Это по-нашему считалось предательством. А в наши времена доносчик себе курдюк недолго отращивал. Будь ты хоть старшиной над всеми старшинами, но, если ты доносчик, рано или поздно язык вывалишь...
— Дедушка, — пытаюсь я понять ход его мысли, — но ведь старшина был самый главный в деревне, кому же он доносил?
— Вот самому себе и доносил...
— Дедушка, ты что-то напутал, — говорю я, — так не бывает.
— Ничего я не напутал, — отвечает дедушка, — если старшина знает и молчит или только говорит среди своих родственников, по закону считается, что он ничего не знал. Но если старшина говорит об этом на сходке, по закону считается, что он знает и должен наказать. Вот и выходит, что он доносчик и донес самому себе.
— А-а, — говорю я, — ну а что, старшина потом вам не отомстил?
— Наоборот, — говорит дедушка, — он стал нас уважать. Уж если у них женщины такие дикие, решил он, что же связываться с мужчинами.
Дедушка снова затюкал топориком, а мне вдруг становится тоскливо. Выходит, абреки необязательно гордые мстители и герои, выходит, что они могут сжечь сарай или ни с того ни с сего убить человека? Мне почему-то горько и неприятно, что среди моих любимых героев встречаются мошенники и негодяи. Я чувствую, что это как-то заставляет меня присматриваться ко всем абрекам, что, конечно, оскорбительно для честных и благородных разбойников. Я горестно прохожу перед строем абреков и ищу среди них поджигателя дедушкиного сарая. Я верю в честность большинства из них, но ничего не поделаешь, приходится проверять вывернутые карманы рыцарей. И я чувствую, что рыцари с вывернутыми карманами, даже если и оказались честными, уже не совсем рыцари, и сами они это чувствуют, и от этого мне нестерпимо горько.
Что-то похожее я испытал, когда однажды отец мне сказал, что царь был плохим человеком. Эта весть поразила меня как громом. До этого я считал, что царь людей и царь зверей выбираются по одному и тому же закону. А так как среди зверей считался царем лев, то есть самый сильный, самый храбрый и самый благородный зверь, то я, естественно, считал, что люди в выборе своего царя пользуются не менее разумными признаками.
А еще однажды меня привели в театр. И вот после замечательного зрелища люди почему-то начали хлопать в ладоши, а те, что жили на сцене, теперь просто так вышли и стали раскланиваться. Среди них особенно противным был один человек, которого за несколько минут до этого убили, а теперь он не только бесстыдно восстал из мертвых и как дурак стоял среди живых — у него еще хватило бесстыдства держаться одной рукой за руку своего убийцы, а другой тихо отряхивать себе штаны.
И все они вместе улыбались и кланялись, а я себя чувствовал обманутым и оскорбленным. А глупые зрители почему-то тоже улыбались и хлопали в ладоши, словно приговаривая: «Хорошо вы нас обманывали, нам очень понравилось, как вы нас обманывали...»
И вдруг я замечаю, что в просвете между деревьями появляется корабль. А за ним и другие. Целая флотилия военных кораблей. Они медленно-медленно, оставляя жирный, как бы выдавленный из труб, дым, проползают по миражной стене моря. Застыв от радостного изумления, я слежу за ними. Особенно поражает один, низкий, непомерно длинный, он занимает почти весь просвет между деревьями.
— Дедушка, смотри! — кричу я, очнувшись, и показываю на него пальцем.
Дедушка смотрит некоторое время, а потом снова берется за топорик.
— Это что? — говорит он. — Вот «Махмудья» был такой большой, что на нем можно было скачки устраивать...
— Это что еще за «Махмудья»? — спрашиваю я. Но дедушка не отвечает. Он подхватывает охапку последних прутьев, поднимается с ними по склону и бросает в общую кучу. Дедушка усаживается у края гребня, удобно свесив ноги с обрывистого склона. Он достает из кармана платок, утирает потную бритую голову в коротких седых волосах, прячет платок и затихает, расстегнув на седой груди пуговицы. Я слежу за ним и чувствую, что мне приятна его не окостеневшая по-старчески, а гибкая, живая ладонь со сточенными пальцами, круглая седая голова, и мне приятно само удовольствие, с которым он утирал от пота свою голову, а теперь прохлаждает ее. Но я знаю, что он еще должен ответить на мой вопрос, и жду.
— Мы на нем в амхаджира уплывали, — говорит он, задумавшись.
Я уже знаю, что такое амхаджира, — это насильный угон абхазцев в Турцию. Это было давно-давно. Может быть, сто, а то и больше лет прошло с тех пор.
— Дедушка, — говорю я, — расскажи, как вас угоняли?
— А нас и не угоняли, мы сами, — отвечает дедушка.
— Да как же не угоняли, когда и в книжках об этом написано, — говорю я.
— Обманывать обманывали, а угонять не угоняли, — упрямо отвечает дедушка и подымает на меня голову, — да и как ты абхазца угонишь? Абхазец в лес уйдет или в горы. Вот кубанцев, скажем, можно угнать, потому что у них земля голая, как ладонь... А нашего не угонишь, потому что наш всегда в сторону свернуть норовит. Во времена первого переселения я был мальчишкой, меня и брать не хотели...
Я усаживаюсь рядом с дедушкой в знак того, что теперь намерен его долго слушать. Дедушка снимает с ног чувяки из сыромятной кожи, вытряхивает из них мелкие камушки, землю, потом выволакивает оттуда пучки бархатистой особой альпийской травы, которую для мягкости закладывают в чувяки. Сейчас он слегка копнит эти пучки в руках и осторожно, как птичьи гнезда, всовывает в чувяки.
— Ну и как вы, дедушка, приплыли? — спрашиваю я и представляю огромный, но простой, как паром, пароход «Махмудья», на котором полно наших беженцев. Они почему-то нисколько не унывают, а, наоборот, время от времени устраивают скачки, а турки, важно перебирая в пальцах четки, следят за скачками.
— Приплыли хорошо, прямо в Стамбул, — вспоминает дедушка, — всю дорогу нас кормили белым хлебом и пловом. Очень нам понравилось это.
— Ну а потом?
— Вышли мы в Стамбуле, но нас там не оставили. Только и увидели мусульманскую мечеть, которая Ай-Софья называется.
— А почему вас не оставили?
— Потому что, сказали нам, в Стамбуле и без того греков и армян много, а если еще абхазцев пустить, так туркам, говорят, некуда будет деться.
— Так куда же вас повезли?
— Повезли в другое место. Вышли на берег, смотрим: место голое, каменистое. А нам до этого говорили, что в Турции хлебоносные деревья и сахар из земли прямо, как соль, добывают. А тут не то что хлебоносных деревьев, простой чинары не видно. И вот наши спрашивают у турков:
«А плов с белым хлебом вы нам будете пароходом подвозить, что ли?»
«Никакого плова с белым хлебом, — говорят турки, — мы вам не будем подвозить. Пашите землю, разводите себе коз и живите...»
«Да мы что, сюда пахать приехали?! — рассердились наши. — Пахать мы и у себя могли. У нас и земля лучше, и вода родниковая...»
«Придется пахать», — отвечают турки.
«А что же нам говорили, что в Турции сахар из земли роют, как соль, и хлебные деревья растут?» — не унимаются наши.
«Нет, — говорят турки, — в Турции сахар в земле не водится, потому что, если бы сахар водился в земле, турки бы ее насквозь прокопали, а это бы султан никогда не позволил».
«Да что султану от этого, хуже, что ли?» — удивляются наши.
«Конечно, хуже, — отвечают турки, — если землю прокопать насквозь, она будет дырявая, как сыр, изъеденный крысами, а кому интересно управлять дырявой страной?»
«Ничего тут страшного нет, — отвечают наши, — дырку можно огородить и объезжать».
«Не в этом дело, — говорят турки, — дырку, конечно, огородить можно, но другие султаны и даже русский царь будут смеяться над нашим султаном, что он управляет дырявой страной, а это для него большая обида».
«Выходит, у вас и хлебные деревья не растут?» — догадываются наши.
«Хлебные деревья тоже не растут, — отвечают турки, — зато у нас растут инжировые деревья».
«Да вы что, турки, с ума посходили! — кричат наши. — Что вы нам голову мутите своими сахарными дырками да инжировыми деревьями?! Да абхазец из-за какого-то инжира не то что море переплывать, со двора не выйдет, потому что у каждого инжир растет во дворе».
«Ну, — говорят турки, — если вы такие гордые и у вас свой инжир, чего вы сюда приехали?»
«Да нам говорили, — объясняют наши, — что в Турции сахар прямо из земли роют, как соль, и хлебные деревья растут. Вот мы и решили — прокормимся, раз деревья хлебоносные и сахар каждый себе может накопать. Да мы и мусульманство, по правде сказать, из-за этого приняли. Нас царь предлагал охристьянить, да мы отказались. Смотрите, турки, мы еще к царю можем податься», — припугивают наши.
«Так чего же вы раньше не подались?» — удивляются турки.
«Оттого не подались, — отвечают наши, — что у царя Сибирь слишком далеко раскинулась и холодная слишком. А мы, абхазцы, любим, когда тепло, а когда холодно, мы не любим».
«Да вам-то что, что Сибирь далеко раскинулась?» — удивляются турки.
«А то, что, — отвечают наши, — у нас обычай такой: арестованных родственников навещать, передачи им передавать, чтобы они духом не падали. А в Сибирь и на хорошей лошади за месяц не доедешь. Так что сколько ни вези передач, сам по дороге слопаешь. Мы и прошение писали через нашего писаря, чтобы для абхазцев Сибирь устроили в Абхазии. Мы даже котловину себе выбрали хорошую, безвыходную. И стражникам удобно — бежать некуда. И нам хорошо — подъехал на лошади и катай себе вниз что вяленое мясо, что сыр, что чурек».
«Ну и что вам царь ответил?» — удивляются турки.
«В том-то и дело, что не ответил, — говорят наши, — то ли писарю мало дали за прошение, то ли царь не захотел Сибирь передвигать...»
Тут турки стали между собой переговариваться, а потом один из них спрашивает:
«Скажите нам, только честно. Правда, что русские снег едят?»
«Спьяну, может быть, — отвечают наши честно, — а так — нет».
«Ну, тогда селитесь, разводите коз и больше нас не заговаривайте», — решают турки.
«Если вы нас здесь поселите, — все-таки приторговываются наши, — мы, пожалуй, сбросим мусульманство, нам оно ни к чему...»
«Ну и сбрасывайте, — обижаются турки, — мы и без вас обойдемся».
«А тогда почему на пароходе нас кормили белым хлебом да пловом? — допытываются наши. — Нам очень понравилась такая пища...»
«Это была политика», — отвечают турки.
«Так куда ж она делась, если была? — удивляются наши. — Пусть она еще побудет».
«Теперь ее нет, — отвечают турки. — Раз вы приехали, кончилась политика...»
Но наши не поверили, что кончилась политика, они решили, что турецкие писаря припрятали ее для себя.
«Если так, мы будем жаловаться султану», — пригрозили наши.
«Что вы! — закричали турки. — В Турции жаловаться нельзя, в Турции за это убивают».
«Ну тогда, — говорят наши, — мы будем воровать, нам ничего не остается...»
«Что вы! — совсем испугались турки. — В Турции воровать тоже нельзя».
«Ну, если в Турции ничего нельзя, — отвечают наши, — везите нас обратно, только чтобы по дороге кормили пловом и белым хлебом, а про инжир даже не заикайтесь, потому что мы его все равно в море побросаем».
Но турки нас обратно не повезли, а сами наши дорогу найти не могли, потому что море следов не оставляет. Тут приуныли наши и стали расселяться по всей Турции, а кто и дальше пошел — в Арабистан, а многие в турецкую полицию служить пошли. И хорошо служили, потому что нашим приятно было над турками власть держать, хотя бы через полицию. А я через год так затосковал по нашим местам, что нанялся на фелюгу к одному бандиту, и он меня привез в Батум, а оттуда я пешком дошел до нашего села.
Дедушка замолкает и, глядя куда-то далеко-далеко, что-то напевает, а у меня перед глазами проносятся странные видения дедушкиного рассказа...
— Вот так, — говорит дедушка и, взяв в руки чувяк, разминает его перед тем, как надеть на ногу, — обманывать обманывали, а насильно из нашего села не угоняли...
Я смотрю на крупные ступни дедушкиных ног, на их какое-то особое, отчетливое строение. На каждой ноге следующий за большим палец крупнее большого и как бы налезает на него. Я знаю, что такие ступни никогда не бывают у городских людей, только почему-то у деревенских. Гораздо позже точно такие же ноги я замечал на старинных картинах с библейским сюжетом — крестьянские ноги апостолов и пророков.
Надев чувяки, дедушка легко встает и раскладывает прутья в две кучи — одну, совсем маленькую, для меня и огромную для себя.
— Дедушка, я больше донесу, — говорю я, — давай еще...
— Хватит, — бормочет дед и, обломав гибкую вершину орехового прута, скручивает ее, перебирая сильными пальцами, как будто веревку сучит. Размочалив ее как следует в руках, он просовывает ее под свои прутья, стягивает узел, ногой прижимает к земле всю вязанку, снова стягивает освободившийся узел и замысловато просовывает концы в самую гущу прутьев, так, чтобы они не выскочили.
Покамест он этим занимается, я стою и жду, положив поперек шеи дедушкин посох и перевалив через него руки. Получается, вроде висишь на самом себе. Очень удобно.
— Однажды, — говорит дед, сопя над вязанкой, — когда строили кодорскую дорогу, пришли к русскому инженеру наниматься местные жители. Инженер выслушал их, оглядел и сказал: «Всех беру, кроме этого...»
Дед кивает, как бы показывая на отвергнутого работника.
— Дедушка, а почему он его не взял? — спрашиваю я.
— Потому, что он стоял, как ты, — показывает дедушка глазами на палку.
— А разве так нельзя стоять? — спрашиваю я и на всякий случай все-таки убираю палку с шеи.
— Можно, — отвечает дед, не подымая головы, — да только кто так стоит, тот лентяй, а зачем ему нанимать лентяев?
— Да откуда же это известно? — раздражаюсь я. — Вот я снял палку с шеи, значит, я уже не лентяй, да?
— Э-э, — тянет дед, — это уже не считается, но раз ты держал палку поперек шеи, да еще руки повесил на нее, значит, лентяй. Примета такая.
Ну что ты ему скажешь? А главное, я и сам чувствую, что, может быть, он и прав, потому что, когда я так палку держал, мне ничего-ничего неохота было делать. И даже не просто неохота было ничего делать, а было приятно ничего не делать. Может быть, думаю я, настоящие лентяи — это те, кто с таким удовольствием ничего не делает, как будто делает что-то приятное. Все же на всякий случай я вонзаю дедушкин посох в землю рядом со своей вязанкой, над которой он сейчас возится.
Теперь две стройно стянутые вязанки ореховых прутьев с длинными зелеными хвостами готовы.
— Пойдем-ка, — неожиданно говорит дедушка и входит в кусты рододендрона по ту сторону гребня.
— Куда? — спрашиваю я и, чтобы не оставаться одному, бегу за ним. Теперь я замечаю, что в зарослях рододендрона проходит еле заметная тропа. Полого опускаясь в котловину, она идет вдоль гребня.
Сразу чувствуется, что это северная сторона. Сумрачно. Кусты рододендрона здесь особенно жирные, мясистые. На кустах огромные, какие-то химические цветы. В воздухе пахнет первобытной гнилью, ноги по щиколотку уходят в рыхлую, прохладную землю.
И вдруг среди темной сумрачной зелени, радуя глаза светлой, веселой зеленью, высовываются кусты черники. Высокие, легкие кусты щедро обсыпаны черными дождинками ягод. Так вот куда меня дедушка привел!
Дедушка нагибает ближайший куст, стряхивает на ладонь ягоды и сыплет их в рот. Я тоже стараюсь не отставать. Длинные, легкие стебли только тронешь, как они податливо наклоняются, сверкая глазастыми ягодами. Они такие вкусные, что я начинаю жадничать. Мне кажется, что мне одному не хватит всего этого богатства, а тут еще дедушка, как маленький, ест да ест ягоды. Не успеет общипнуть одну ветку, как уже присматривается, ищет глазами другую и вдруг — цап! — схватился за ветку, полную ягод.
Но вот наконец я чувствую, что больше не могу, уже такую оскомину набил, что от воздуха больно холодит зубы, когда открываешь рот. Дедушка тоже, видно, наелся.
— Смотри, — говорит он и носком чувяка толкает в мою сторону помет, — здесь, видно, медведь бывает... А вот и кусты обломаны.
Я слежу за его рукой и вижу, что и в самом деле кое-где обломаны черничные ветки. Я озираюсь. Месте это сразу делается подозрительным, неприятным. Очень уж тут сумрачно, слишком глубоко уходят ноги в вязкую, сырую землю, не особенно разбежишься в случае чего.
А вон в кустах рододендрона, за тем каштаном, что-то зашевелилось.
— Дедушка, — говорю я, чтобы не молчать, — а он нас не тронет?
— Нет, — отвечает дедушка и ломает ветки черники, — он сам не трогает, разве с испугу.
— А чего ему нас пугаться, — говорю я, на всякий случай громко и внятно, — у нас даже ружья нет. Чего нас бояться?
— Конечно, — отвечает дедушка, продолжая наламывать ветки черники.
Все-таки делается как-то неприятно, тревожно. Скорее бы домой. Но сейчас прямо сказать об этом стыдно.
— Хватит, — говорю я дедушке все так же громко и внятно, — мы наелись, надо же теперь и ему оставить.
— Сейчас, — отвечает дедушка, — хочу наших угостить.
Цепляясь за кусты, он быстро взбирается на крутой косогор, где много еще нетронутой черники. Я тоже наламываю для наших черничные ветки, но мне почему-то завидно, что дедушка первым вспомнил о них. Пожалуй, я бы совсем не вспомнил...
С букетами черники снова выбираемся на гребень. После сырого, холодящего ноги, северного склона приятно снова ступать по сухим, мягким листьям. Дедушка приторачивает наши букеты к вязанкам.
Он кладет свою огромную вязанку на плечо, встряхивается, чтобы почувствовать равновесие, и, поддерживая вязанку топориком, перекинутым через другое плечо, двигается вниз по гребню. Я проделываю то же самое, только у меня вместо топорика дедушкина палка поддерживает груз.
Мы спускаемся по гребню. Дедушку почти не видно, впереди меня шумит и колышется зеленый холм ореховых листьев.
Сначала идти легко и даже весело. Груз почти не давит на плечо, ступать мягко, склон не слишком крутой, ноги свободно удерживают тело от разгона, а тут еще возле самого рта играют сверкающие бусинки черники. Можно языком слизнуть одну, другую, но пока не хочется.
Но вот мы выходим из лесу, и почти сразу делается жарко, а идти все трудней и трудней, потому что ступать босыми ногами по кремнистой тропе больно. А тут еще ветки впиваются в плечо, какая-то древесная труха летит за ворот, жжет и щекочет потное тело. Я все чаще встряхиваю вязанку, чтобы плечо не затекало и груз удобней лег. Но оно снова начинает болеть, вместо одних неудобных веток высовываются другие и так же больно давят на плечо. Я нажимаю на дедушкину палку, как на рычаг, чтобы облегчить груз на плече, и он в самом деле делается легче, но тогда начинает болеть левое плечо, на котором лежит палка. А дедушка все идет и идет, и только трясется впереди меня огромный сноп зеленых листьев.
Наконец сноп медленно поворачивается, и я вижу свирепое дедушкино лицо. Может, он сейчас сбросит свою кладь и мы с ним отдохнем? Нет, что-то не похоже...
— Не устал? — спрашивает дедушка. Вопрос этот вызывает во мне тихую ярость: да я не то что устал, я просто раздавлен этой проклятой вязанкой!
— Нет, — выдавливаю я из себя для какой-то полноты ожесточения, только бы не показаться дедушке жалким, ни к чему не способным.
Дедушка отворачивается, и снова перед глазами волнуется и шумит огромный зеленый сноп. Я почему-то вспоминаю дедушкино лицо в то мгновение, когда он повернулся ко мне, и начинаю понимать, что свирепое выражение у него выработалось от постоянных физических усилий. Сейчас под грузом у него резче обозначились на лице те самые складки, которые видны на нем и обычно. Я догадываюсь, что эта гримаса преодоления так и застыла у него на лице, потому что он всю жизнь что-то преодолевал.
Мы проходим мимо дома моего двоюродного брата. Собаки издали, не узнавая нас, заливаются лаем. Я думаю: может, дедушка остановится, чтобы хоть собаки успокоились, но дедушка не останавливается и с каким-то скрытым раздражением на собак, мне кажется, я это чувствую по тому, как трясется кладь на его спине, проходит дальше.
Я вижу, как из кухни выходит мой двоюродный брат и смотрит в нашу сторону. Это могучий гигант, голубоглазый красавец. Сейчас он стоит на взгорье и видится на фоне неба и от этого кажется особенно огромным. Он с трудом узнает нас и кричит:
— Ты что, дед, совсем спятил — ребенка мучить!
— Бездельник, — кричит ему дедушка в ответ, — лучше б своих чумных псов придержал!
Мы еще некоторое время проходим под холмом, на котором стоит дом моего двоюродного брата, и он еще сверху следит за нами, и я, зная, что он сейчас жалеет меня, и, чтоб угодить его сочувствию, стараюсь выглядеть еще согбенней.
А идти все трудней и трудней. Пот льет с меня рекой, ноги дрожат и, кажется, вот-вот согнутся и я растянусь прямо на земле. Я выбираю глазами впереди какой-нибудь предмет и говорю себе: «Вот дойдем до этого белого камня, и я сброшу свою кладь, вот дойдем до этого поворота тропы, а там и отдых, вот дойдем...»
Не знаю почему, но это помогает. Может, дело в том, что, репетируя преодоление последнего отрезка дороги, я оживляю надежду, мечту на отдых, которую мертвит слишком тяжелый, слишком однообразный путь.
Неожиданно дедушка останавливается у изгороди кукурузного поля. Он пригибается и прислоняет свою вязанку к изгороди. Только бы дойти до него, только бы дотянуть...
И вот он снимает с моего плеча вязанку и ставит рядом со своей.
Мы с дедушкой усаживаемся на траву, откинувшись спиной на изгородь. Блаженная, сладкая истома. Позади нас кукурузное поле, впереди на десятки километров огромная равнина, с огромной стеной моря во весь горизонт. Широкий и ровный ветерок тянет с далекого моря, шелестит в кукурузной листве.
— В прошлом году с этого поля взяли сорок корзин кукурузы, — говорил дедушка, — а я здесь брал в самый плохой год шестьдесят...
«Господи, да мне-то что?» — мелькает у меня в голове, и я забываюсь.
До того сладко сидеть, откинувшись спиной на изгородь, и потной шеей чувствовать ровный, прохладный ветерок, а то вдруг за пазуху пробьется струйка воздуха или за ворот рубашки и холодком протечет по ложбинке спины. И так странно и хорошо сидеть, вслушиваясь, как тело наполняется и наполняется свежестью и никак не может переполниться, это наполнение как-то сливается с упругим ровным ветерком, с высоким могучим небом, откуда доносится дремотный, мерцающий звон жаворонков, с лениво перепархивающим от стебля к стеблю шелестом кукурузы за спиной.
Я знаю, что дедушка сейчас ждет моего вопроса, но мне неохота разговаривать, и я молчу.
— А почему? — не дождавшись вопроса, сам себе его задает дедушка и отвечает: — Да потому, что я трижды мотыжил, а они дважды, да и то видишь как?
Дедушка легко встает и быстро перелезает через изгородь. Я бы сейчас за миллион рублей не встал с места. Все же я поворачиваю голову и слежу за ним сквозь щели в изгороди.
— Этот надо бы срезать, — говорит дед и вырывает из земли уже рослый стебель кукурузы, — и этот, и этот, и этот...
Даже я сейчас вижу, что мотыжили плохо, траву у корней кукурузы срезали небрежно, просто завалили землей, и теперь она снова проросла. Через несколько минут дедушка перебрасывает через изгородь большую охапку кукурузных стеблей.
— Лентяи, лоботрясы, бездельники, — бормочет дед, приторачивая кукурузные стебли к своей вязанке.
Мне почему-то представляется, что вся деревня сидит в тени деревьев и с утра до вечера слушает всякие истории, и при этом все сидят, закинув свои палки поперек шеи, у всех руки лежат на палках, безвольно свесив кисти. Я смотрю вниз. Под нами котловина Сабида, справа от нее голый зеленый склон, на котором видны отсюда черные и рыжие пятна пасущихся коров. Густой лес темнеет во всю котловину. И только местами зелень светлее — это грецкие орехи. Они выше самых высоких каштанов, светло-зелеными холмами высятся их кроны над лесом.
— Дедушка, — спрашиваю я, — откуда эти грецкие орехи в лесу? Может, раньше там кто-нибудь жил?
— А-а, — кивает дедушка, словно довольный тем, что я наконец-то их заметил, — это я их повсюду рассадил и виноград пустил на каждый орех.
Мне странно, что дедушка, такой маленький, мог посадить такие гигантские деревья, самые большие в лесу. А раньше мне казалось, что когда-то в этих местах жили великаны, но потом они почему-то ушли в самые непроходимые дебри. Может быть, их обидели или еще что — неизвестно. И вот эти грецкие орехи да еще развалины каких-то крепостных стен, которые иногда встречаются в наших лесах, — все, что осталось от племени великанов.
— Когда я сюда перебрался жить, здесь не то что орехов — ни одного человека не было, — говорит дедушка.
— И ни одного дома? — спрашиваю я.
— Конечно, — говорит дедушка и вспоминает: — Я случайно набрел на это место, здесь вода оказалась хорошая. А раз вода хорошая, значит, жить можно. Когда я вернулся из Турции, мама женила меня на твоей бабушке, а то уж слишком я был легок на ногу. Бабка твоя тогда была совсем девочка. Года два она ложилась с моей мамой, а потом уже привыкла ко мне. А когда мы переехали сюда, у нас уже был ребенок, а из четвероногих у нас была только одна коза и то чужая. Одолжил, чтобы ребенка было чем кормить. А потом у нас все было, потому что я работы не пугался...
Но мне скучно слушать, как дедушка любил работать, и я его перебиваю.
— Дедушка, — говорю я, — ты когда-нибудь лошадей уводил?
— Нет, — отвечает дедушка, — а на что они мне?
— Ну а что-нибудь уводил?
— Однажды по глупости телку увели с товарищем, — вспоминает дедушка, подумав.
— Расскажи, — говорю я, — все как было.
— А что рассказывать? Шли мы из Атары в нашу деревню. Вечер в лесу нас застал. Смотрим — телка. Заблудилась, видно. Ну, мы ее сначала смехом погнали впереди себя, а потом и совсем угнали... Хорошая была годовалая телка.
— И что вы с ней сделали? — спрашиваю я.
— Съели, — отвечает дедушка кротко.
— Вдвоем?
— Конечно.
— Да как же можно вдвоем целую телку? — удивляюсь.
— Очень просто, — отвечает дедушка, — завели ее подальше от дороги. Развели костер, зарезали. Всю ночь жарили и ели. Ели и жарили.
— Не может быть! — кричу я. — Как же можно годовалую телку вдвоем съесть?!
— Так мы же были темные, вот и съели. Даже кусочка мяса не осталось. Помню, как сейчас, на рассвете чисто обглоданные кости вывалили в кусты, затоптали костер и пошли дальше.
— Дедушка, — говорю я, — расскажи такой случай, где ты проявил самую большую смелость.
— Не знаю, — говорит дедушка и некоторое время смотрит из-под руки в котловину Сабида. Похоже, что он не узнает какую-то корову или не может досчитаться. Но вот успокоился и продолжает: — Я такие вещи не любил, я работать любил.
— Ну все-таки, дедушка, вспомни, — прошу я и смотрю на него. А он сидит рядом со мной, круглоголовый, широкоплечий и маленький, как подросток. И мне все еще трудно поверить, что это он насажал столько гигантских деревьев, что это у него дюжина детей, а было и больше, и каждый из них на голову выше дедушки ростом и все-таки в чем-то навсегда уступает ему, и я это чувствую давно, хотя, конечно, объяснить не в силах.
— Вот если хочешь, — неожиданно оживляется дедушка и спиной, прислоненной к изгороди, нащупывает более удобную позу, — слушай... Однажды поручили мне передать односельчанину одну весть. А он в это время уже был со своим скотом на альпийских лугах. Это в трех-четырех днях ходьбы от нашего села. И вот я пошел. Но как пошел? Сначала обогнал всех, кто со скотом проходил по этой дороге. Потом обогнал всех, кто пешим шел по этой дороге, потом обогнал тех, кто днем раньше вышел со скотом по этой дороге, и ночью обогнал тех, кто пешим днем раньше пустился в путь. А на следующий день утром, когда еще пастухи коров не успели подоить, я подошел к балагану.
— Дедушка, а тех, что днем раньше выехали верхом? — спрашиваю я.
— Тех не успел, — отвечает дедушка.
— И ты ни разу не останавливался?
— Только чтобы выпить воды или кислого молока в пастушеском балагане. Клянусь нашим хлебом и солью: день и ночь шел, ни разу нигде не присев, — говорит дедушка важно и замолкает, положив на колени руки.
И опять я представляю, как дедушка топает по дороге и все, кто вышел перегонять скот, остаются позади, и те, что идут сами по себе, остаются позади, и те, что вышли со скотом днем раньше, остаются позади, и те, что днем раньше вышли сами по себе, остаются позади. Но тех, кто днем раньше выехал верхом, дедушка не достал, да и то, мне кажется, что они все оглядывались и нахлестывали своих лошадей, чтобы дедушка их не догнал.
— Ну ладно, пошли, — говорит дедушка и легко подымается. Подымаюсь и я.
И снова зеленый сноп качается впереди. Солнечные лучи, дробясь и сверкая на свежих листьях, режут глаза, раздражают.
Наконец мы входим в ворота дедушкиного дома. Дедушка открывает ворота и, придерживая ногой, пропускает меня. Собаки с лаем несутся на нас и только вблизи, узнав, притормаживают и отбегают. Мы прислоняем к забору свои вязанки.
На шум из кухни выходит моя тетушка. Она подходит к нам, еще издали придав лицу скорбное выражение, смотрит на меня.
— Умаял, убил, — говорит она, показывая бабке, которая высовывается из кухни, что она жалеет меня и осуждает дедушку.
Мои двоюродный братишка и сестренка валяются на бычьей шкуре в тени грецкого ореха. Сейчас, подняв головы, они смотрят на наши вязанки одинаковым телячьим взглядом. Это погодки года на два-на три младше меня. Мальчик крепыш с тяжелыми веками, а девочка хорошенькая, круглолицая, с длинными турецкими бровями. Почти одновременно догадываясь, вскакивают.
— Лавровишни! — кричит Ремзик.
— Черника, черника, — радостно поправила Зина, и оба, топоча босыми ногами, подбегают к нам.
— Мне! Мне! Мне! — кричат они, протягивая руки к моему букету, который я уже вытащил из вязанки. Разделив поровну, я раздаю им черничные ветки. Две собаки, Рапка и Рыжая, кружатся у ног, бьют по земле хвостами, заглядывают в лицо. Они чувствуют, что мы принесли что-то съедобное, но не понимают, что это для них не годится.
Дети жадно едят чернику, а я чувствую себя взрослым благодетелем.
Тетушка вынимает из вязанки дедушкин букет и, на всякий случаи приподняв его повыше, чтобы Ремзик по дороге не цеплялся, проходит в кухню. Она несет букет с таким видом, словно он ей нужен для каких-то хозяйственных надобностей. Все же не выдерживает и, по дороге ощипав несколько ягод, бросает в рот, словно из тех же хозяйских соображений: не дай Бог, окажется кислятиной.
Дедушка выдергивает из вязанки кукурузные стебли и идет к загону, где заперты козлята. Они уже давно услышали шум листьев и сейчас нетерпеливо ждут, привстав на задние ноги и опираясь передними на плетень. Они заливаются тонким, детским блеяньем. Время от времени пофыркивают. Над плетнем торчат кончики ушей и восковые рожки. Дедушка забрасывает охапку кукурузных стеблей в загон, кончики ушей и рожки мгновенно исчезают.
Я чувствую удовольствие от каждого своего движения. Ноги мои чуть-чуть дрожат, плечи ноют, и все-таки я ощущаю во всем теле необыкновенную легкость, облегченность и даже счастье, какое бывает, когда после долгой болезни впервые ступаешь по земле.
Тетушка выносит из кухни кувшин с водой и полотенце. Мы с дедушкой умываемся, тетушка поливает.
Пока мы умываемся, Ремзик, прикончив свою чернику, выхватывает у сестренки последнюю ветку и убегает. Девочка заливается слезами, ревет, глядя на мать бессмысленными и в то же время ждущими возмездия глазами. Тетушка снова начинает ругать деда.
— Чтоб ты подавился своей черникой, на черта она была нужна, — приговаривает она и грозит в сторону сына: — А ты еще захочешь кушать, а ты еще вернешься.
Крепыш, насупившись, стоит за воротами. Видно, что он теперь и сам не рад, потому что чернику уже успел съесть, а время обеда приближается. Из кухни доносится вкусный запах чуть-чуть подгорелой мамалыги.
— Что же ты, обещал мне новую ручку приделать к мотыге, а все не делаешь, — бросает тетушка в сторону деда, заходя в кухню.
— Сейчас, — говорит дедушка и подходит к поленнице, где свалено в кучу несколько мотыг и лопат. Он подымает тетушкину мотыгу и одним ударом обуха топорика отбивает лезвие от ручки. Дедушка наклоняется и берет лезвие в руки.
Я захожу в кухню и усаживаюсь у очага рядом с бабушкой. Высоко над огнем в большом чугуне висит готовая мамалыга. Я вытягиваю ноги. Золотистый запах поджаренной мамалыжной корочки нестерпимой сладостью щекочет ноздри. Скорее бы за стол, но тетушка ждет хозяина, как она говорит про мужа. Покамест он не придет, мы за стол не сядем.
— А ну, сукин сын, поди сюда, — зовет дедушка моего братца.
— Чего тебе... — слышится после некоторой паузы.
— Иди, покрутишь мне точильный камень, — говорит дедушка.
— Мамка будет драться, — после некоторого раздумья отвечает мальчик, как бы и матери давая время высказаться по этому поводу.
Но тетушка не высказывается.
— Не бойся, иди, — говорит дед и, зайдя в кухню, наливает в кувшинчик воды, чтобы поливать точильный камень.
У огня ноги мои начинают чесаться, и бабушка обращает внимание на это. Увидев, в каком они состоянии, она всплескивает руками и начинает ругать дедушку. Тут и тетушка подходит ко мне, низко наклоняется над моими окровавленными ногами и тоже начинает ругать дедушку.
— Ничего, — говорю я, — это же комары...
— Господи, пронеси, — говорит бабушка, — да что же он наделал с тобой, проклятый непоседа!
— Мне не больно, бабушка, — говорю я.
— Вот это и плохо, что не больно, — причитает бабушка, — лучше бы болело.
— Что мы теперь скажем его маме? Здорово мы сберегли ее ребенка, — повторяет тетушка, напоминая, что скоро должна приехать из города моя мама. Бабка ставит у огня чайник с водой.
— Запричитали, дуры, запричитали, — слышится из-за кухни голос деда.
Потом доносится сочный звук металла, трущегося о мокрый точильный камень. Бабка ставит возле меня тазик, наливает туда теплую воду из чайника и наклоняется мыть мне ноги. Мне стыдно, но я знаю, что теперь трудно с ней сладить, и соглашаюсь. Бабка и тетушка продолжают ворчать на деда и жалеть меня.
Мне приходится расстаться с ролью взрослого парня, каким я себя чувствовал, когда вошел во двор со своей поклажей. Мне навязывают состояние угнетенного безжалостным дедом, чуть ли не сиротки. И я постепенно вхожу в него. Я чувствую, что состояние угнетенности не лишено своего рода приятности.
Хотя ноги мои и в самом деле в кровавых ссадинах и немного припухли, я никаких особых страданий не испытываю. Немного печет — вот и все. Но мне уже приятно соглашаться с ними, приятно чувствовать себя страдающим, когда признаки страдания очевидны, а на самом деле никакого страдания нет, так что сочувствие воспринимается как поэзия чистой прибыли.
Я ощущаю, как тепловатая сладость лицемерия разливается у меня в груди. Ноги мои в крови — значит, я страдаю — таковы правила игры, которую предлагают мне взрослые, и я ее с удовольствием принимаю.
— Ровно крути, — слышится голос дедушки, — еще ровней...
— Что я, мельница, что ли? — ворчит Ремзик. Снова сочный звук металла, трущегося о мокрый камень.
— Теперь в обратную сторону, — слышится голос дедушки.
— Мне неудобно, у меня рука болит, — ворчит Ремзик, но все же крутит.
— Лоботряс, — говорит дедушка, — я в твоем возрасте...
Бабка подает мне чистую тряпку и выносит тазик с водой. Слышится, как шлепнулась вода о траву. Я вытираю ноги.
Но тут тетке показалось, что кто-то ее кличет. Она замирает, прислушиваясь.
— Тише вы там! — кричит она деду и выбегает во двор.
Она подходит к самой изгороди и слушает. В самом деле чей-то далекий голос.
— Чего тебе, уй! — кричит она своим пронзительным голосом.
В открытую кухонную дверь видно, как она стоит, слегка наклонившись вперед, в позе, поглощающей звук.
— Так гоните ж, гоните! — кричит она, что-то выслушав.
Опять оттуда доносится неопределенный звук, и она замирает, прислушиваясь. Почувствовав, что воздушная связь прочно налажена, точильный камень снова заработал.
— У меня уже рука болит, я не могу, — сдавленным голосом жалуется Ремзик.
— А ты левой, — говорит дедушка.
— Левой я не привык, — продолжает ворчать Ремзик.
Снова слышится звук металла, трущегося о мокрый точильный камень.
— Хорошо, передам, хорошо! — кричит тетка и возвращается на кухню.
— Что там случилось? — спрашивает бабушка испуганно. С тех пор как в прошлом году ее сын, дядя Азис, погиб на охоте, она так и не пришла в себя и все боится, что еще что-нибудь случится.
— Ничего, ничего, просто буйвол Датико опять залез в кукурузник, — отвечает тетушка и ставит у огня чугунок с утренним лобио.
Об этом буйволе я уже слышал сто раз. Как только его выпустят, он как сумасшедший бежит прямо на колхозную кукурузу, и никакая изгородь его не может удержать. Дядя мой работает бригадиром, поэтому сюда и кричат.
— Вернули бы мне три дня молодости, — говорит дедушка из-за дома: оказывается, он все слышал, — я бы показал этому буйволу...
Я думаю над дедушкиными словами и никак не могу сообразить, что бы он показал этому буйволу и почему ему нужно для этого три дня молодости. Потом догадываюсь: дедушка его украл бы и съел. А так как буйвол большой, ему пришлось бы есть его целых три дня. Я представляю, как дедушка сидит в лесу над костром, зажаривает куски буйволятины и ест. Жарит и ест, жарит и ест, и так целых три дня и три ночи. Потом собирает кости и забрасывает их в кусты, а когда поворачивается, то он уже снова старик, то есть у него волосы опять побелели, а все остальное осталось таким же.
Тетушка быстро и ловко продевает на вертел вяленое мясо, разгребает жар и, присев на низенький стульчик, покручивает вертел на огне, время от времени отворачиваясь от огня: слишком печет. Постепенно мясо зажаривается, покрывается розовой коркой, влажнеет от жира, который начинает по каплям стекать на раскаленные угли. Там, где упадет капля, всплескивается голубой язычок пламени. От вяленого и теперь еще зажаренного мяса подымается такой дух, что просто нет никакого терпения.
— Пепе идет! — кричит Ремзик, первым заметив отца. Так они его почему-то называют. Это сигнал к примирению. Он как бы хочет сказать маме: стоит ли помнить мелкие обиды перед таким общим праздником, как приход отца.
Тетушка выглядывает в дверь и, прислонив вертел с мясом к стенке очага, ставит перед скамьей, на которой мы сидим, низенький деревенский столик.
Дядя Кязым вдруг останавливается посреди двора. А-а, это он подымает Зину. О ней как-то все забыли. Наревевшись, она не то забылась, не то уснула на зеленой лужайке двора. Сейчас она ковыляет рядом с отцом на кухню.
Сразу же после отца в кухню входят дедушка и Ремзик, чувствующий себя прощенным за свои труды с дедушкой.
Между делом тетушка все-таки успевает достать его таким быстрым, бреющим ударом по голове.
— Ты чего? — удивляется дядя. Обычно он суров, а все-таки не любит, чтобы детей били.
— Он знает чего, — говорит тетушка.
Ремзик обиженно опускает свои бычьи веки, но долго обижаться не приходится: еще без обеда останешься.
Тетушка поливает мужу воду. Дядя медленно моет огромные руки, потом мокрыми ладонями несколько раз проводит по лицу и коротко остриженной голове.
— Опять буйвол Датико залез в кукурузник, — говорит тетушка, поливая, — тебе кричали...
— Гори огнем, — отвечает дядя безразлично и молчит. Потом, вытирая руки, не выдерживает: — Заперли?
— Да, — говорит тетушка и накрывает на стол.
— Кого, буйвола или Датико? — спрашиваю я, потому что как-то неясно, кого следует наказывать: буйвола или его хозяина.
Дядя усмехается, а все остальные смеются. Обидно, что и дети смеются.
— Стоило бы его самого запереть дня на три, — говорит дядя, как бы оправдывая мое предположение.
Мы все сидим в ряд возле очага. В головах дед, потом бабушка, потом дядя, потом остальные. Тетушка мамалыжной лопатой накладывает каждому свою порцию прямо на тщательно выскобленную розовую доску стола. Мамалыга густо дымит. Потом она каждому в тарелочку разливает лобио, разбрасывает по столу снопы зеленого лука, а потом уже более расчетливо делит жареное мясо.
Я не могу удержаться, чтобы тайно, краем глаза не проследить, как она раздает мясо. Все мне кажется, что лучшие куски она раздает своим, мужу и детям. Я знаю, что стыдно за этим следить, но все же не удерживаюсь и подглядываю. Вот и Ремзику, хоть он и провинился, а все же не удержалась и дала ему самый большой кусок мяса и тут же, словно спохватилась, что чаша весов слишком явно перевесила в его сторону, шлепнула его по лбу ла-донью, словно толкнула рукой другую чашу.
Я чувствую, что тетушка знает, что я прослеживаю за ней, и это сковывает ее действия, и она старается скорей закончить раздачу.
— Дали бы мне три дня молодости, — повторяет дедушка с полным ртом, — я бы показал, что сделать с этим буйволом...
— Ну, ты у нас герой, — говорит дядя насмешливо. Я знаю, на что он намекает.
На краю табачной плантации стоит огромное каштановое дерево. Часть веток его отбрасывает тень на плантацию, и на этом месте табак всегда хилый, недоразвитый. С самого начала лета я слышал разговоры о том, что надо бы подрубить ветки этому каштану, но почему-то никто не брался. Правда, влезть на него очень трудно, потому что метров на десять поднимается совсем голый ствол и не за что ухватиться.
Сначала все решили, что на дерево подымется заведующий фермой, охотник и скалолаз. Но в это время он был в горах, и решили послать за ним человека, потому что все равно пора было ехать в горы за сыром. Человека послали, заведующий фермой приехал, но, когда ему показали на дерево, он отказался на него влезать, потому что, по его словам, за дичью он может лазить по скалам, как муха по стене, но на этот каштан влезать боится, потому что у него кружится голова от одного взгляда на такие большие деревья. Тогда ему сказали: зачем же он приехал, если у него кружится голова, даже когда он смотрит на такие большие деревья. На это он ответил, что на альпийских лугах он так соскучился по семье, что каштан этот ему показался не таким уж высоким и ветки вроде, казалось, пониже расти начинают. Но теперь, когда он повидался с семьей, он чувствует, что ему не одолеть этот каштан, что он, пожалуй, поедет назад, потому что пастухи без него там загубят весь скот.
Одним словом, заведующего фермой пришлось отпустить, а каштан так и остался со своей раскидистой тенью, и никому неохота было на него лезть, и все почему-то шутили по этому поводу, а то и ругались: пропади он пропадом, весь табак, чтобы еще из-за него на дерево влезать...
Дедушка долгое время все это терпел, и в конце концов с неделю тому назад, когда утром пришли мотыжить эту самую плантацию, дедушка уже был на дереве и, привалившись спиной к стволу, молча рубил ветви, обращенные к плантации. Никто не видел, как он залез, но, судя по тому, что он слез при помощи двух остроносых топориков, попеременно вонзая в ствол то один, то другой, предполагали, что он таким же способом и залез на дерево. После этого дедушку не только не хвалили, его дня два просто поедом ели, потому что он мог свалиться с дерева и опозорить семью, люди могли подумать, что дедушку заставляли работать, да еще в колхозе. Об этом и напоминал сейчас дядя.
Все заняты едой. Редко-редко перекинутся словом. Дедушка с жадным удовольствием мнет в пальцах мамалыгу, сочно кусает зеленый лук, яростно рвет все еще крепкими зубами упругие куски вяленого мяса; дядя ест вяло, словно печаль какой-то неразрешенной задачи навсегда испортила ему аппетит и он каждый раз заставляет себя есть.
Тетушка, я знаю, тоже ест с удовольствием, но ей приходится скрывать это от насмешливого мужа. И она все время сдерживается, просто почти не жует, а прямо-таки заглатывает непрожеванные ломти, чтобы не создавать суеты пережевывания. Временами мне делается страшно: до того огромные куски ей приходится заглатывать.
Но вот мы поели, вымыли руки. У дяди, как у всех людей, которые плохо едят, есть свое лакомство. Он любит сухую корочку, которая прижаривается к чугунку после мамалыги. Сейчас он ее не спеша соскребает, выколупливает ножом. Сам хрустит и нас угощает.
Тетушка укладывает в плетеную корзину обед для старшей дочки. Она осталась в табачном сарае, где вместе с другими девушками и женщинами нижет табак. Понесет его Зина. Она натягивает на себя зеленое праздничное платьице, обувается в сандалии. Все-таки как-никак на люди выходит.
С корзинкой в руке с какой-то девичьей пристой-ностью она переходит двор и, оглянувшись, сворачивает на тропу.
— Не бойся, я здесь стою, — говорит тетушка, следя за ней с веранды.
Зина исчезает за изгородью, а через несколько минут, когда она доходит до самого страшного места, где особенно густо обступают тропу заросли ежевики, папоротников, бузины, вдруг раздается ее голос. Отчаянно фальшивя, она поет неведомо как залетевшую в горы песенку, которая почему-то и тогда казалась устаревшей:
Нас побить, побить хотели,
Нас побить пыталися,
Но мы тоже не сидели,
Того дожидалися...
И вдруг не выдержала, побежала, встряхивая и рассыпая слова песенки.
— Понесло, — говорит тетушка, улыбаясь голосом. Вздохнув и помедлив, входит в кухню.
Слышно, как дедушка возится на веранде, обтачивая новую ручку для теткиной мотыги. Чувствуется, что после еды у него хорошее настроение, он что-то напевает себе и строгает ручку.
— Наелся мяса и поет, — говорит дядя насмешливо, кивая в сторону деда.
И вдруг дедушка замолкает. Может, услышал? Мне делается как-то неприятно.
Я люблю дядю. Я знаю, что он самый умный из всех знакомых мне людей, и я знаю, что ему не мясо жалко, просто он завидует дедушкиной безмятежности. Сам он редко бывает таким, разве что во время пирушки какой-нибудь...
Но сейчас вдруг горячая жалость к дедушке пронизывает меня. «Дедушка, деду, — думаю я, — за что они тебя все ругают, за что?..»
В тишине слышно старательное сопение дедушки и сочный звук стали, режущей свежую древесину: хруст, хруст, хруст...
Петух
С детства меня не любили петухи. Я не помню, с чего это началось, но, если заводился где-нибудь по соседству воинственный петух, не обходилось без кровопролития.
В то лето я жил у своих родственников в одной из горных деревень Абхазии. Вся семья — мать, две взрослые дочери, два взрослых сына — с утра уходила на работу: кто на прополку кукурузы, кто на ломку табака. Я оставался один. Обязанности мои были легкими и приятными. Я должен был накормить козлят (хорошая вязанка шумящих листьями ореховых веток), к полудню принести из родника свежей воды и вообще присматривать за домом. Присматривать особенно было нечего, но приходилось изредка покрикивать, чтобы ястреба чувствовали близость человека и не нападали на хозяйских цыплят. За это мне разрешалось как представителю хилого городского племени выпивать пару свежих яиц из-под курицы, что я и делал добросовестно и охотно.
На тыльной стороне кухни висели плетеные корзины, в которых неслись куры. Как они догадывались нестись именно в эти корзины, оставалось для меня тайной. Я вставал на цыпочки и нащупывал яйцо. Чувствуя себя одновременно багдадским вором и удачливым ловцом жемчуга, я высасывал добычу, тут же надбив ее о стену. Где-то рядом обреченно кудахтали куры. Жизнь казалась осмысленной и прекрасной. Здоровый воздух, здоровое питание — и я наливался соком, как тыква на хорошо унавоженном огороде.
В доме я нашел две книги: Майна Рида «Всадник без головы» и Вильяма Шекспира «Трагедии и комедии». Первая книга потрясла меня. Имена героев звучали как сладостная музыка: Морис-мустангер, Луиза Пойндекстер, капитан Кассий Колхаун, Эль-Койот и, наконец, во всем блеске испанского великолепия Исидора Коваруби де Лос-Льянос.
«— Просите прощения, капитан, — сказал Морис-мустангер и приставил пистолет к его виску.
— О ужас! Он без головы!
— Это мираж! — воскликнул капитан».
Книгу я прочел с начала до конца, с конца до начала и дважды по диагонали.
Трагедии Шекспира показались мне смутными и бессмысленными. Зато комедии полностью оправдали занятия автора сочинительством. Я понял, что не шуты существуют при королевских дворах, а королевские дворы при шутах.
Домик, в котором мы жили, стоял на холме, круглосуточно продувался ветрами, был сух и крепок, как настоящий горец.
Под карнизом небольшой террасы лепились комья ласточкиных гнезд. Ласточки стремительно и точно влетали в террасу, притормаживая, трепетали у гнезда, где, распахнув клювы, чуть не вываливаясь, тянулись к ним жадные крикливые птенцы. Их прожорливость могла соперничать только с неутомимостью родителей. Иногда, отдав корм птенцу, ласточка, слегка запрокинувшись, сидела несколько мгновений у края гнезда. Неподвижное стрельчатое тело, и только голова осторожно поворачивается во все стороны. Мгновение — и она, срываясь, падает, потом, плавно и точно вывернувшись, выныривает из-под террасы.
Куры мирно паслись во дворе, чирикали воробьи и цыплята. Но демоны мятежа не дремали. Несмотря на мои предупредительные крики, почти ежедневно появлялся ястреб. То пикируя, то на бреющем полете он подхватывал цыпленка, утяжеленными мощными взмахами крыльев набирал высоту и медленно удалялся в сторону леса. Это было захватывающее зрелище, я иногда нарочно давал ему уйти и только тогда кричал для очистки совести. Поза цыпленка, уносимого ястребом, выражала ужас и глупую покорность. Если я вовремя поднимал шум, ястреб промахивался или ронял на лету свою добычу. В таких случаях мы находили цыпленка где-нибудь в кустах, контуженного страхом, с остекленевшими глазами.
— Не жилец, — говаривал один из моих братьев, весело отсекал ему голову и отправлял на кухню.
Вожаком куриного царства был огромный рыжий петух. Самодовольный, пышный и коварный, как восточный деспот. Через несколько дней после моего появления стало ясно, что он ненавидит меня и только ищет повода для открытого столкновения. Может быть, он замечал, что я поедаю яйца, и это оскорбляло его мужское самолюбие. Или его бесила моя нерадивость во время нападения ястребов? Я думаю, и то и другое действовало на него, а главное, по его мнению, появился человек, который пытается разделить с ним власть над курами. Как и всякий деспот, этого он не мог потерпеть. Я понял, что двоевластие долго продолжаться не может, и, готовясь к предстоящему бою, стал приглядываться к нему.
Петуху нельзя было отказать в личной храбрости. Во время ястребиных налетов, когда куры и цыплята, кудахтая и крича, разноцветными брызгами летели во все стороны, он один оставался во дворе и, гневно клокоча, пытался восстановить порядок в своем робком гареме. Он делал даже несколько решительных шагов в сторону летящей птицы; но, так как идущий не может догнать летящего, это производило впечатление пустой бравады.
Обычно он пасся во дворе или в огороде в окружении двух-трех фавориток, не выпуская, однако, из виду и остальных кур. Порою, вытянув шею, он посматривал в небо: нет ли опасности?
Вот скользнула по двору тень парящей птицы или раздалось карканье вороны — он воинственно вскидывает голову, озирается и дает знак быть бдительными. Куры испуганно прислушиваются, иногда бегут, ища укрытое место. Чаще всего это была ложная тревога, но, держа сожительниц в состоянии нервного напряжения, он подавлял их волю и добивался полного подчинения.
Разгребая жилистыми лапами землю, он иногда находил какое-нибудь лакомство и громкими криками призывал кур на пиршество.
Пока подбежавшая курица клевала его находку, он успевал несколько раз обойти ее, напыщенно волоча крыло и как бы захлебываясь от восторга. Затея эта обычно кончалась насилием. Курица растерянно отряхивалась, стараясь прийти в себя и осмыслить случившееся, а он победно и сыто озирался.
Если подбегала не та курица, которая приглянулась ему на этот раз, он загораживал свою находку или отгонял курицу, продолжая урчащими звуками призывать свою новую возлюбленную. Чаще всего это была опрятная белая курица, худенькая, как цыпленок. Она осторожно подходила к нему, вытягивала шею и, ловко выклевав находку, пускалась наутек, не проявляя при этом никаких признаков благодарности.
Перебирая тяжелыми лапами, он постыдно бежал за нею, и, даже чувствуя постыдность своего положения, он продолжал бежать, на ходу стараясь хранить солидность. Догнать ее обычно ему не удавалось, и он в конце концов останавливался, тяжело дыша, косился в мою сторону и делал вид, что ничего не случилось, а пробежка имела самостоятельное значение.
Между прочим, нередко призывы пировать оказывались сплошным надувательством. Клевать было нечего, и куры об этом знали, но их подводило извечное женское любопытство.
С каждым днем он все больше и больше наглел. Если я переходил двор, он бежал за мною некоторое время, чтобы испытать мою храбрость. Чувствуя, что спину охватывает морозец, я все-таки останавливался и ждал, что будет дальше. Он тоже останавливался и ждал. Но гроза должна была разразиться, и она разразилась.
Однажды, когда я обедал на кухне, он вошел и стал у дверей. Я бросил ему несколько кусков мамалыги, но, видимо, напрасно. Он склевал подачку и всем своим видом давал понять, что о примирении не может быть и речи.
Делать было нечего. Я замахнулся на него головешкой, но он только подпрыгнул, вытянул шею наподобие гусака и уставился ненавидящими глазами. Тогда я швырнул в него головешкой. Она упала возле него. Он подпрыгнул еще выше и ринулся на меня, извергая петушиные проклятия. Горящий, рыжий ком ненависти летел на меня. Я успел заслониться табуреткой. Ударившись о нее, он рухнул возле меня, как поверженный дракон. Крылья его, пока он вставал, бились о земляной пол, выбивая струи пыли, и обдавали мои ноги холодком боевого ветра.
Я успел переменить позицию и отступал в сторону двери, прикрываясь табуреткой, как римлянин щитом.
Когда я переходил двор, он несколько раз бросался на меня. Каждый раз, взлетая, он пытался, как мне казалось, выклюнуть мне глаз. Я удачно прикрывался табуреткой, и он, ударившись о нее, шлепался на землю. Оцарапанные руки мои кровоточили, а тяжелую табуретку все труднее было держать. Но в ней была моя единственная защита.
Еще одна атака — и петух мощным взмахом крыльев взлетел, но не ударился о мой щит, а неожиданно уселся на него. Я бросил табуретку, несколькими прыжками достиг террасы и дальше — в комнату, захлопнув за собой дверь.
Грудь моя гудела, как телеграфный столб, по рукам лилась кровь. Я стоял и прислушивался: я был уверен, что проклятый петух стоит, притаившись за дверью. Так оно и было. Через некоторое время он отошел от дверей и стал прохаживаться по террасе, властно цокая железными когтями. Он звал меня в бой, но я предпочел отсиживаться в крепости. Наконец ему надоело ждать, и он, вскочив на перила, победно закукарекал.
Братья мои, узнав о моей баталии с петухом, стали устраивать ежедневные турниры. Решительного преимущества никто из нас не добился, мы оба ходили в ссадинах и кровоподтеках.
На мясистом, как ломоть помидора, гребешке моего противника нетрудно было заметить несколько меток от палки; его пышный, фонтанирующий хвост порядочно ссохся, тем более нагло выглядела его самоуверенность. У него появилась противная привычка по утрам кукарекать, взгромоздившись на перила террасы прямо под окном, где я спал.
Теперь он чувствовал себя на террасе, как на оккупированной территории.
Бои проходили в самых различных местах: во дворе, в огороде, в саду. Если я влезал на дерево за инжиром или за яблоками, он стоял под ним и терпеливо дожидался меня.
Чтобы сбить с него спесь, я пускался на разные хитрости. Так, я стал подкармливать кур. Когда я их звал, он приходил в ярость, но куры предательски покидали его. Уговоры не помогали. Здесь, как и везде, отвлеченная пропаганда легко посрамлялась явью выгоды. Пригоршни кукурузы, которую я швырял в окно, побеждали родовую привязанность и семейные традиции доблестных яйценосок. В конце концов являлся и сам паша. Он гневно укорял их, а они, делая вид, будто стыдятся своей слабости, продолжали клевать кукурузу.
Однажды, когда тетка с сыновьями работала на огороде, мы с ним схватились. К этому времени я уже был опытным и хладнокровным бойцом. Я достал разлапую палку и, действуя ею как трезубцем, после нескольких неудачных попыток прижал петуха к земле. Его мощное тело неистово билось, и содрогания его, как электрический ток, передавались мне по палке.
Безумство храбрых вдохновляло меня. Не выпуская из рук палки и не ослабляя ее давления, я нагнулся и, поймав мгновение, прыгнул на него, как вратарь на мяч.
Я успел изо всех сил сжать ему глотку. Он сделал мощный пружинистый рывок и ударом крыла по лицу оглушил меня на одно ухо. Страх удесятерил мою храбрость. Я еще сильнее сжал ему глотку. Жилистая и плотная, она дрожала и дергалась у меня в ладони, и ощущение было такое, как будто я держу змею. Другой рукой я обхватил его лапы, клешнятые когти шевелились, стараясь нащупать тело и врезаться в него.
Но дело было сделано. Я выпрямился, и петух, издавая сдавленные вопли, повис у меня на руках.
Все это время братья вместе с теткой хохотали, глядя на нас из-за ограды. Что ж, тем лучше! Мощные волны радости пронизывали меня. Правда, через минуту я почувствовал некоторое смущение. Побежденный ничуть не смирился, он весь клокотал мстительной яростью. Отпустить — набросится, а держать его бесконечно невозможно.
— Перебрось его в огород, — посоветовала тетка. Я подошел к изгороди и швырнул его окаменевшими руками.
Проклятие! Он, конечно, не перелетел через забор, а уселся на него, распластав тяжелые крылья. Через мгновение он ринулся на меня. Это было слишком. Я бросился наутек, а из груди моей вырвался древний спасительный клич убегающих детей:
— Ма-ма!
Надо быть или очень глупым, или очень храбрым, чтобы поворачиваться спиной к врагу. Я это сделал не из храбрости, за что и поплатился.
Пока я бежал, он несколько раз догонял меня, наконец я споткнулся и упал. Он вскочил на меня, он катался по мне, надсадно хрипя от кровавого наслаждения. Вероятно, он продолбил бы мне позвоночник, если бы подбежавший брат ударом мотыги не забросил его в кусты. Мы решили, что он убит, однако к вечеру он вышел из кустов, притихший и опечаленный.
Промывая мои раны, тетка сказала:
— Видно, вам вдвоем не ужиться. Завтра мы его зажарим.
На следующий день мы с братом начали его ловить. Бедняга чувствовал недоброе. Он бежал от нас с быстротою страуса. Он перелетал через огород, прятался в кустах, наконец забился в подвал, где мы его и выловили. Вид у него был затравленный, в глазах тоскливый укор. Казалось, он хотел мне сказать: «Да, мы с тобой враждовали. Это была честная мужская война, но предательства я от тебя не ожидал». Мне стало как-то не по себе, и я отвернулся. Через несколько минут брат отсек ему голову. Тело петуха запрыгало и забилось, а крылья, судорожно трепыхаясь, выгибались, как будто хотели прикрыть горло, откуда хлестала и хлестала кровь. Жить стало безопасно и... скучно.
Впрочем, обед удался на славу, а острая ореховая подлива растворила остроту моей неожиданной печали.
Теперь я понимаю, что это был замечательный боевой петух, но он не вовремя родился. Эпоха петушиных боев давно прошла, а воевать с людьми — пропащее дело.
Мой дядя самых честных правил
Когда ребята с нашей улицы начинали хвастаться своми знаменитыми родичами, я молчал, я давал им высказаться.
Военные проходили по высшей категории. Но и среди военных была своя особая, подсказанная мальчишеским воображением субординация. На первом месте были пограничники, на втором — летчики, на третьем — танкисты, а потом остальные. Пожарники проходили вне конкурса.
Тогда еще не было войны, а у меня, как назло, ни один родственник не служил в армии. Но я имел свой особый козырь, которым пользовался довольно успешно.
— А у меня дядя сумасшедший,— говорил я спокойным голосом, отодвигая на некоторое время слишком реальных героев своих товарищей. Сумасшедший — это необычно, а главное, почти недоступно. Летчиком и пограничником можно стать, если хорошо учиться,— так, по крайней мере, утверждали взрослые. А они, конечно, знали что к чему. А сумасшедшим не станешь, будь ты самым что ни на есть отличником. Конечно, если не заучиться. Но нам это не грозило.
Одним словом, сумасшедшим надо родиться, или в детстве удачно упасть, или заболеть менингитом.
— А он настоящий? — спрашивал кто-нибудь из ребят недоверчиво.
— Конечно,— говорил я, ожидая этого вопроса,— у него справки есть, его смотрели профессора.
Справки и вправду были, они лежали у тетки в швейной машинке «Зингер».
— А почему он не в сумасшедшем доме живет?
— Его бабушка туда не пускает.
— А вы не боитесь его по ночам?
— Нет, мы привыкли, — говорил я спокойно, как экскурсовод, ожидая следующих вопросов. Иногда задавали глупые вопросы, вроде того, не кусается ли он, но я оставлял их без внимания.
— А ты не сумасшедший? — догадывался кто-нибудь спросить, глядя на меня проницательными глазами.
— Немножко могу, — говорил я со скромным достоинством.
— Интересно, кто победит: Фран-Гут или сумасшедший? — бросал кто-нибудь, и сразу же возникали десятки интересных предложений. Фран-Гут был знаменитым борцом из проезжего цирка шапито. Он был негр, и поэтому мы все за него болели.
Дядя жил на втором этаже нашего дома вместе с тетей, бабушкой и остальной родней. Существовали две фамильные версии, объясняющие его не вполне обычное состояние. По первой из них получалось, что это случилось с ним в детстве после болезни. Это была неинтересная и потому малоправдоподобная версия. По второй, которую распространяла тетка и в конце концов заглушила бабушкины воспоминания, оказывалось, что он в ранней юности упал с арабского скакуна.
Тетя почему-то не любила, когда его называли сумасшедшим.
— Он не сумасшедший, — говорила она, — он душевнобольной.
Это звучало красиво, но непонятно. Тетя любила приукрашивать действительность, и это ей отчасти удавалось. Но все-таки он был настоящий сумасшедший, хотя и почти нормальный.
Обычно он никого не трогал. Сидел себе на скамеечке на балконе и пел песенки собственного сочинения. В основном это были романсы без слов.
Правда, иногда на него находило. Он вспоминал какие-то старые обиды, начинал хлопать дверьми и бегать по длинному коридору второго этажа. В таких случаях лучше было не попадаться ему на глаза. Не то чтобы он обязательно что-нибудь натворил, но все же лучше было не попадаться. Если при этом бабушка оказывалась дома, она его довольно быстро приводила в себя. Бабка заворачивала ему ворот рубахи и бесцеремонно подставляла его голову под кран. После хорошей порции холодной воды он успокаивался и садился пить чай.
Словарь его, как у современных поэтов-песенников, был предельно сжат. Вытряхните на стол тетрадь второклассника — там будут все слова, которыми дядюшка обходился при жизни. Правда, у него было несколько выражений, которые явно не встретишь в тетради второклассника и даже в книге не встретишь. Он употреблял их, как и нормальные люди, в минуты наибольшего душевного подъема. Из них можно воспроизвести только одно: «Удушу мать».
Говорил он в основном по-абхазски, но ругался на двух языках: по-русски и по-турецки. По-видимому, сочетания слов в память ему врезались по степени накала. Отсюда можно заключить, что русские и турки в минуту гнева выдают выражения примерно одинаковой эмоциональной насыщенности.
Как все сумасшедшие (и некоторые несумасшедшие), он был очень сильным. Дома он выполнял всякую работу, не требующую большой сообразительности. Сливал помои, таскал свежую воду, когда еще не было водопровода, приносил базарные сумки, колол дрова. Работал добросовестно и даже вдохновенно. Когда мощная струя помоев, описав крутую траекторию со второго этажа, глухо шлепалась в яму, бродячие кошки, возившиеся в ней, взлетали, как подброшенные взрывной волной.
Бабушка его жалела, она считала, что он может надорватья на работе. Иногда, в дни генеральной уборки, она насильно укладывала его в постель и объявляла, что он заболел. Она перевязывала ему голову или щеку, и он лежал растерянный и несколько смущенный мистификацией. В конце концов ему надоедало лежать, и он пытался подняться, но бабушка снова заталкивала его в постель. Заставить работать его в такие часы было невозможно. Он пожимал плечами и говорил: «Бабушка не разрешает». Он бабушку называл бабушкой, хотя она ему была мамой. Такой уж он был, со странностями.
Дядя был удивительно чистоплотен. Нам, детям, всегда его ставили в пример. Я с тех пор, как увижу слишком чистоплотного человека, не могу избавиться от мысли, что у него в голове не все в порядке. Я, понятно, ему об этом не говорю, но так, для себя, имею в виду.
Словом, дядя был ужасно чистоплотным. Бывало, не подходи, когда он тащит свежую воду или сумку с провизией или садится есть. А уж руки мыл каждые десять-пятнадцать минут. Его за это ругали, потому что он протирал полотенце, но отучить не могли. Бывало, пожмет ему кто-нибудь руку, он тут же бежит к умывалке. Взрослые часто потешались над этим и нарочно здоровались с ним по многу раз на день. Из какого-то такта дядя Коля не мог не подать руки, хотя и понимал, что его разыгрывают.
Больше всего на свете он любил сладости, из всех сладостей — воду с сиропом. Если нас посылали с ним на базар и мы проходили мимо ларька с фруктовыми водами, он, обычно не склонный к сантиментам, трогал меня рукой и, показывая на цилиндрики с разноцветными сиропами, застенчиво говорил: «Коля пить хочет».
Приятно было угостить взрослого седоглавого человека сладкой водичкой и чувствовать себя рядом с ним человеком пожившим, добрым и снисходительным к детским слабостям.
А еще он любил бриться. Правда, это удовольствие ему доставляли не так уж часто. Примерно раз в месяц. Иногда его посылали в парикмахерскую, но чаще его брила сама тетка.
Бритье он воспринимал серьезно. Сидел не морщась и не шевелясь, пока тетка немилосердно скребла его намыленную, горделиво приподнятую голову. В такие минуты можно было из-за теткиной спины показывать ему язык, грозить кулаком, он не обращал никакого внимания, погруженный в парикмахерский кейф. И это несмотря на то, что борода и особенно волосы на голове, как бы возросшие на целинных землях, густо курчавились и отчаянно сопротивлялись бритве. Иногда тетка просила меня подержать ему ухо или натянуть кожу на шее. Я, конечно, охотно соглашался, понимая всю недоступность такого удовольствия в обычных условиях. С несколько преувеличенным усердием я держал его большое смуглое ухо, заворачивая его в нужном направлении и рассматривая шишки мудрости на его голове.
Обычно похожий на добродушного пасечника с курчавой бородой, после бритья он резко менялся: лицо его принимало брезгливо-надменное выражение римского сенатора из учебника по истории древнего мира. В первые дни после бритья он становился замкнутым и даже высокомерным, потом постепенно римский сенатор уходил в глубь бороды и выступал добродушный демократизм деревенского пасечника.
Я бы не сказал, что он страдал манией величия, но, проходя мимо памятника в городском сквере, он испытывал некоторое возбуждение и, кивая на памятник, говорил: «Это я». То же самое повторял, увидев портрет человека, поданный крупным планом в газете или журнале. Ради справедливости надо сказать, что он за себя принимал любое изображение мужчины в крупном плане. Но так как в этом виде почти всегда изображался один и тот же человек, это могло быть понято как некоторым образом враждебный намек, опасное направление мыслей и вообще дискредитация. Бабушка пыталась отучить его от этой привычки, но ничего не получалось.
— Нельзя, нельзя, комиссия, — грозно говорила бабушка, тыкая пальцем в портрет и отлучая дядю от него, как нечистую силу.
— Я, я, я, — отвечал ей дядя радостно, постукивая твердым ногтем по тому же портрету. Он ничего не понимал.
Я тоже ничего не понимал, и опасения взрослых мне казались просто глупыми.
Комиссии дядя действительно боялся. Дело в том, что соседи, исключительно из человеколюбия, время от времени писали анонимные доносы. Одни из них указывали, что дядя незаконно проживает в нашем доме и что он должен жить в сумасшедшем доме, как и все нормальные сумасшедшие. Другие писали, что он целый день работает и надо проверить, нет ли здесь тайной эксплуатации человека человеком.
Примерно раз в год являлась комиссия. Пока члены ее опасливо подымались по лестнице, тетя успевала надеть на него новую праздничную рубашку, давала ему в руки бабушкины четки и грозным шепотом приказывала ему сидеть и не двигаться. Члены комиссии, несколько сконфуженные своим необычным делом, извинялись и задавали тетке необходимые вопросы, время от времени поглядывая на дядю со скромным любопытством. Тетя извлекала из зингеровской машинки дядины документы.
— У него золотой характер, — говорила она. — А физический труд ему полезен. Об этом сам доктор Жданов говорил. Да и что он делает? Пару ведер воды принесет от скуки, вот и все.
Пока она говорила, дядя сидел за столом, деревянно сжимая четки, и глядел прямым немигающим взглядом деревенской фотографии.
Перед уходом кто-нибудь из членов комиссии, освоившись и осмелев, спрашивал у дяди:
— Нет ли жалоб?
Дядя вопросительно смотрел на бабушку, бабушка на тетю.
— Он у нас плохо слышит, — говорила тетя с таким видом, как будто это был его единственный недостаток.
— Жалобы, говорю, есть? — громче спрашивал тот.
— Батум, Батум... — задумчиво, сквозь зубы цедил дядя. Он начинал злиться на всю эту комедию, потому что про Батум он вспоминал в минуты крайнего раздражения.
— Ну какие у него могут быть жалобы? Он шутит, — говорила тетя, очаровательно улыбаясь и провожая комиссию до порога. — Он у меня живет как граф, — добавляла она крепнущим голосом, глядя в спину уходящей комиссии. — Если бы некоторые эфиопки смотрели за своими мужьями, как я за своим инвалидом, у них не было бы времени сочинять армянские сказки.
Это был вызов двору, но двор, притаившись, трусливо молчал.
После ухода комиссии праздничную рубашку с дяди снимали, и тетя, назло соседям, посылала его за водой. Гремя ведрами, он радостно бросался в путь, явно предпочитая коммунальным фокусам свое древнее занятие водоноса.
Больше всего на свете дядя не любил кошек, собак, детей и пьяных. Не знаю, как насчет остальных, но в нелюбви к детям отчасти виноват и я.
За многие годы я хорошо изучил все его наклонности, привязанности, слабости. Любимым занятием моим было дразнить его. Шутки порой бывали жестокими, и я теперь в них каюсь, но сделанного не вернешь. Единственное, что в какой-то мере утешает, это то, что и мне от него доставалось немало тумаков.
Бывало, в сырой зимний день сидим в теплой кухне. Бабушка возится у плиты, рядом дядя на скамеечке, а я сижу на кушетке и читаю какую-нибудь книгу. Потрескивает огонь, посвистывает чайник, мурлычет кошка. В конце концов этот тихий, сумасшедший уют начинает надоедать. Я все чаще откладываю книгу и смотрю на дядю. Дядя смотрит на меня своими зелеными персидскими глазами. Он смотрит на меня, потому что знает, что рано или поздно я должен выкинуть какую-нибудь штучку. И так как он знает это и ждет, я не могу удержаться.
Простейший способ нарушить его спокойствие — это долго и пристально смотреть ему в глаза. Вот он начинает ерзать на стуле, потом опускает глаза и рассматривает свои большие руки, но я прекрасно знаю, о чем он думает. Потом он быстро поднимает глаза, чтобы узнать, смотря я или нет. Я продолжаю смотреть. Я даже занимаю спокойную, удобную позу. Она должна внушить ему, что смотреть на него я намерен долго и это не составляет для меня большого труда. Он начинает беспокоиться и вполголоса говорит:
— Этот дурачок меня дразнит.
Он не хочет раньше времени подымать ненужный шум, он говорит для меня. Он как бы репетирует передо мной свою будущую жалобу.
Я продолжаю упорно смотреть. Бедняга отворачивается, но ненадолго. Ему хочется узнать, продолжаю ли я смотреть. Я, конечно, смотрю. Тогда он прикрывает глаза ладонью. Но и это не помогает. Ему хочется узнать, оставил ли я его в покое в конце концов. Он слегка, думая, что я этого не замечаю, растопыривает ладони и смотрит в щелочку. Я гляжу как ни в чем не бывало. Тогда раздражается скандал.
— Он смотрит на меня, я его убью! — кричит дядюшка, и злые огни вспыхивают в его глазах. Я мгновенно отвожу взгляд на книгу, а потом подымаю голову с видом человека, неожиданно оторванного от своих мирных занятий.
— Что же, ему глаза выколоть, что ли? — говорит бабушка и, дав ему легкий подзатыльник, советует не смотреть в мою сторону, раз уж мой вид так его раздражает.
Но иногда, доведенный до ярости более злыми шутками, он сам дает подзатыльники, хватает полено или кочергу, и тогда наступает страшная минута. Особенно если нет рядом бабушки или взрослых сильных мужчин. «Боженька, — шепчу я про себя, — спаси на этот раз, и тогда я никогда в жизни не буду его дразнить. И буду всегда тебя любить и даже вместе с бабушкой тебе молиться. Вот увидишь, ты только спаси». Но, видно, я не слишком надеюсь на боженьку, тем более что каждый раз его подвожу. Несмотря на страх, сознание работает быстро и четко. Бежишь, если дядя еще не отрезал путь к дверям. Но если бежать уже невозможно, единственное спасение — неожиданно подойти к нему и, низко наклонившись, подставить голову: бей. Это довольно жуткая минута, потому что перед тобой вооруженный безумец, да еще в ярости.
Но, видно, эта жалкая поза, эта полная покорность судьбе его обезоруживают. Какое-то врожденное благородство останавливает его от удара. Он мгновенно гаснет. Бывало, только оттолкнет брезгливо и отойдет, в недоумении пожимая плечами на то, что люди могут быть такими дерзкими и такими жалкими одновременно.
Однажды я прочитал замечательную книжку, где шпион притворялся глухонемым, но потом его разоблачили, потому что он во сне заговорил по-немецки. Один наш контрразведчик нарочно выстрелил над его головой, но он даже не вздрогнул. Он был сильной личностью. Но во сне он переставал быть сильной личностью, потому что спал. И вот он заговорил по-немецки, а мальчик его разоблачил. Другой мальчик тоже слышал, как шпион говорит во сне, но не мог его разоблачить, потому что плохо занимался по-немецки и не понял, по-какому тот говорит. Но главное не это. Главное, что шпион притворялся глухонемым.
Мысль моя сделала гениальный скачок: я понял, что дядя мой совсем не сумасшедший, а самый настоящий шпион. Единственное, что меня немного смущало, это то, что бабка его помнила с детских лет. Но и это препятствие я быстро опрокинул. Его подменили, догадался я. Сумасшедший дядя был, но шпионы изучили его повадки и словечки и в один прекрасный день дядю выкрали, а вместо него подсунули шпиона. А брезгливым он притворяется нарочно, чтобы его кто-нибудь не отравил.
Я вспомнил, что в его поведении было много подозрительного. Иногда он что-то записывал на листках бумаги цветными карандашами. Бумажки эти он тщательно прятал. Я, конечно, заглядывал в них, но раньше они мне казались каракулями неграмотного человека. Здорово же он нас обманывал! А удочка!
Дядя иногда ходил на море ловить рыбу. В этом не было бы ничего странного, ведь и нормальные люди увлекаются рыбной ловлей. Но дело в том, что на удочке его не было крючков. А мы еще смеялись над ним. Может быть, внутри удилища был тайный радиоприемник и он передавал сведения вражеской подводной лодке?
Мозг мой пылал. Мысленно я уже читал в «Пионерской правде» большой заголовок: «Пионер разоблачил шпиона. Дети, будьте бдительны!»
Дальше шел мой портрет и рассказ, который начинался такими словами:
«С некоторых пор пионер такой-то (то есть я) стал тихим и грустным. Его близорукие родители (то есть мои родители) считали, что он заболел. На самом деле он обдумывал, как разоблачить матерого шпиона, который долгое время выдавал себя за сумасшедшего дядю. Нелегко было пойти на такой шаг. Но пионер не растерялся. Это была борьба нервов». И дальше в таком же духе и даже еще лучше.
Первым делом надо было выкрасть удочку и проверить ее. Она лежала у дяди под кроватью. К постели своей он меня близко не подпускал, все из той же якобы брезгливости. Но я воспользовался случаем, когда его послали за водой, вытащил удилище из-под кровати, взял напильник и тайком, в огороде, стал распиливать суставчатое тело бамбука. Я распилил каждое звено, но удилище оказалось пустым. Я не впал в уныние, а обратил внимание на то, что самое первое звено у основания удилища не имело естественной перегородки, она была проломана, и туда можно было просунуть палец. Все ясно! Он туда просовывает свой приемничек, а потом вынимает и прячет. Ну и хитрец! Я закопал удилище в огороде и стал обдумывать, что делать дальше.
Надо было спешить, пока он не обнаружил, что у него пропала удочка. Но вот тетка ушла из дому по своим делам, бабушка вышла на двор посидеть в холодке, я поднялся наверх. Дядя, как обычно, сидел в кухне и, глядя через окно в коридор, следил, чтобы никто из чужих не проник в дом. Я вошел в кухню и сел против него за стол. Главное, решил я, — напор и неожиданность. Он думает, что начну дразнить, а я на самом деле...
— Ваша карьера окончена, подполковник Штауберг, — сказал я отчетливо и почувствовал, как на спине моей выступает гусиная кожа, подобно пузырькам на поверхности газированной воды.
Не знаю, откуда я взял, что он подполковник Штауберг, — видимо, я доверял интуиции, как и многие гениальные контрразведчики, о которых я читал, в том числе сам майор Пронин.
— Отстань, — сказал дядя мне в ответ тем тоскливым голосом, каким он говорил, когда чувствовал, что я начинаю его дразнить, а у него не было охоты связываться со мной.
Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Железный человек», — подумал я, восторженно содрогаясь и продолжая делать то, что положено было делать в эту минуту.
— Вы неплохо сыграли свою роль, но и мы не дремали, — великодушно отдавая дань ловкости врага, сказал я. Слова приходили точные и крепкие, они вселяли уверенность в правоте дела.
— Мальчик сумасшедший, — сказал дядюшка с некоторым оттенком раздражения. Он всегда меня называл мальчиком, как будто у меня не было своего имени.
«Увиливает, шельма», — подумал я, задыхаясь от вдохновения, и решил, что пора намекнуть ему кое на что.
— Рыбка не клюет? — спросил я, проницательно улыбаясь и глядя ему в глаза. — Море волнуется или удочка не годится?
— Удочка? — повторил он, и в его тусклых глазах мелькнуло подобие мысли.
— Вот именно, удочка, — сказал я, поняв, что ухватился за то самое звено, при помощи которого можно, не слишком громыхая, вытащить и всю цепь.
— Моя удочка? — повторил он, начиная что-то соображать.
— Вы попались на свою удочку, подполковник! — сострил я и, откинувшись на стуле, стал ждать, что будет дальше.
— Удочка, удочка, удушу мать!— пробормотал он в сильном волнении и, что-то окончательно себе уяснив, ринулся к дверям.
— Ни с места! — крикнул я. — Дом оцеплен!
— Батум! — крикнул он и побежал в комнату.
Я немного растерялся. Вместо того чтобы с достоинством сдаться и сказать: «На этот раз вы меня перехитрили, лейтенант...», — он побежал искать удочку, как будто это имело какое-нибудь значение.
Через несколько минут он влетел в комнату, и все перепуталось.
— Украли удочку! — кричал он в ярости, пытаясь схватить меня.
— Добровольное признание облегчит вашу участь! — кричал я в ответ, бегая вокруг стола и сваливая ему под ноги стулья испытанным приемом английской разведки.
— Вор! Удочка! Удушу мать! — кричал он, возбуждаясь от схватки.
— Назовите сообщников! — орал я в ответ, срезая угол стола. В этом было мое спасение, потому что тормозить он не умел и, промахиваясь, пробегал мимо. Все-таки ему иногда удавалось шлепнуть меня через стол или ткнуть кулаком вдогонку.
Я знал, что борьба нервов может быть ужасной, но когда один бьет, а другой только изворачивается, рано или поздно победит тот, кто бьет.
В конце концов я вскочил на кушетку и, отбиваясь ногой, изо всей силы закричал:
— Бабушка!
Она и так уже подымалась по лестнице. Видимо, грохот нашей схватки был слышен во дворе. Увидев ее, бедняга бросился к ней и стал оправдываться. Кстати, это ему почти никогда не удавалось. Нормальному человеку и то трудно оправдаться, а уж такого и слушать никто не хочет.
— Удочка, удочка, — лепетал он, растеряв от волнения и те немногие слова, которые знал.
И вдруг я почувствовал к нему жалость, я как-то понял, что никогда в жизни он не сможет толком оправдаться. А ведь я и в самом деле испортил ему удочку. Но признаться в том, что сам кругом виноват, смелости не хватило. И не только смелости. Я знал, что взрослые привыкли в таких случаях считать его виноватым, и догадывался, что им будет неприятно менять свою удобную привычку и принимать во внимание более сложные соображения.
Я сказал, что он на меня напал, но побить все же не успел. Это был примиренческий выход, к сожалению самый распространенный.
В связях с иностранной разведкой я его больше не подозревал.
Как я ни откладывал, но теперь мне придется рассказать о его великой любви, которую он, к сожалению, никак не мог скрыть от окружающих. Он был влюблен в тетю Фаину. Об этом знали все, и взрослые смачно толковали о его страсти, мало озабоченные тем, что их слушают не вполне подготовленные дети.
Я до сих пор не пойму, почему он выбрал именно ее, самую замызганную, самую конопатую, самую глупую из женщин нашего двора. Я далек от утверждения, что среди них можно было найти Суламифь или Софью Ковалевскую. Но все-таки он выбрал самую некрасивую и самую глупую. Может быть, он чувствовал, что путь между их духовными мирами наименее утомителен?
Тетя Фаина была портнихой. Она обшивала наш двор. В основном ей поручали перешивать старые вещи, детские рубашки, трусы и всякую мелочь.
— Оборочки, манжетики, — говорила она, суетливо обмеривая заказчика сантиметром и стараясь казаться профессионалом.
Шила она, видимо, плохо, да и платили ей за работу очень мало, а иногда и ничего не давали в счет будущих заказов.
— Спасибо, Фаиночка, сочтемся, — говорили ей при этом.
— За спасибо хлеба не купишь, — отвечала она, горестно усмехаясь с некоторой долей отвлеченной обиды в голосе, как бы обижаясь не на заказчиков, а на тех, кто не продает хлеб за спасибо.
В свободное от работы время, а иногда и одновременно с работой тетя Фаина ругалась со своей ближайшей соседкой, одинокой молодой женщиной неопределенных занятий. Звали ее тетя Тамара. Иногда вечерами к ней в гости приходили матросы. Они пели замечательные протяжные песни, а тетя Тамара им подпевала. Получалось очень красиво, но нас почему-то туда не пускали. Соседки не любили тетю Тамару, но побаивались ее.
— Она дерется, как мужчина, — говорили они.
Тетя Фаина и тетя Тамара всегда ругались. Дело в том, что они обе были рыжие. А рыжие между собой никогда не уживаются, тем более по соседству. Они терпеть друг друга не могут.
— Рыжая команда! — бывало, кричит тетя Тамара, стоя у бельевой веревки, увешанная прищепками, как пулеметными лентами.
— Ты сама рыжая, — отвечает тетя Фаина вполне справедливо.
— Я не рыжая, я блондинка лимонного цвета, — усмехается тетя Тамара.
— К тебе матросы ходят, — нервничает тетя Фаина.
— Интересно, кто к тебе пойдет? — ехидно говорит тетя Тамара.
— У меня муж есть, — доказывает тетя Фаина, — все знают моего мужа, он честный человек.
— Начхала я на твоего мужа, — как-то обидно говорит тетя Тамара и, развесив белье, удаляется в комнату.
Бедный дядя был влюблен в эту самую тетю Фаину. Как я теперь понимаю, это была самая бескорыстная и долговечная любовь из всех, которые я встречал в своей жизни. Та святая слепота, которая делает мужчину крылатым или сумасшедшим, была обеспечена ему от рождения.
Ему ничего не надо было от любимой, только находиться поблизости, видеть ее крымские веснушки цвета свежей барабульки и слышать ее голос профессиональной плакальщицы.
Когда она приходила к тете что-нибудь шить, он усаживался рядом и смотрел на нее томными глазами.
— И за что только он меня так любит? — говорила она, если у нее было хорошее настроение.
Дядя и дня не мог прожить без нее. Возле комнаты тети Фаины была кухонная пристроечка, собственно говоря, базарный ларечек, купленный по дешевке ее мужем. Целыми днями она возилась в этой кухоньке, время от времени выглядывая во двор, чтобы увидеть, кто куда прошел, и стараясь угадать по выражению лиц соседок, не дают ли где-нибудь дефицитных товаров. Когда она выглядывала оттуда, вид у нее был какой-то испуганный, как будто она боялась, что, пока она возится с обедом, может упустить что-то важное для жизни или кто-нибудь ее просто прихлопнет. Такой вид бывает у птицы, которая увлеченно что-то клюет, а потом, вдруг вспомнив про опасность, быстро подымает голову и осторожно озирается.
Так вот, дядя обычно подходил к этой кухоньке с тыльной стороны и, наклонившись к фанерной стене, следил за ней в щелочку. Он ничего не мог увидеть, кроме ее стряпни, но, видимо, этого ему было достаточно. Так он мог стоять часами и наблюдать за ней, пока она не выходила из себя и не кричала тете через весь двор:
— Скажите ему, что у меня есть муж, а то он опять за мной ухаживает.
Тетя гнала его домой и ругала, правда, больше для виду. Застигнутый на месте преступления, бедняга чувствовал постыдность своей страсти и, проходя мимо тети, неопределенно пожимал плечами, показывая, что это сильнее его.
— Купите ему воду с двойной сироп, и пусть он успокоится, — советовала тетя Фаина.
Но, видимо, вода с двойным сиропом была слишком слабым утешением. Через час или два дядя сбегал из-под надзора бабушки и снова проникал в заветный уголок.
Вечером, когда приходил с работы муж тети Фаины, она рассказывала ему о своих дневных горестях, не забывая и дядю. Муж ее был косоглазый сапожник, мирный и добрый человек.
— Я люблю, когда все тихо. Моя жена никому не мешает, — говорил он полугромко, так, чтобы никто не обижался, но было видно, что он защищает свою жену. При этом он затыкал или замазывал замазкой очередную дырочку, пробитую дядей в кухонной стене.
Взрослые часто говорили об этой необычной любви. Видимо, для многих из них она сама по себе была достаточно ненормальным признаком.
Говорили при нем, думая, что он ничего не понимает. Но я уверен, что тут он догадывался, о чем идет речь. В такие минуты я замечал в глазах его выражение страдания и стыда, замечал мелкое дрожание губ, а иногда невольный протестующий жест рукой. Как будто он хотел сказать: отстаньте, как вам не стыдно!
Он любил ее до конца своих дней, так ни разу не удостоившись внимания своей жестокой возлюбленной.
Умер дядя вскоре после бабушки. Он по ней очень скучал и все спрашивал, куда она уехала, хотя она умерла при нем. О смерти ее он быстро забыл, но о жизни помнил, потому что эта жизнь окружала его безумие человеческой теплотой и любовью. Ведь неразумных детей матери любят сильнее: они больше нуждаются в их защитной любви.
Тетя потом говорила, что перед смертью к дяде пришла ясность ума, как будто судьба на мгновение решила ему показать, каково быть в здравом рассудке. И это вдвойне жестоко, потому что такой короткой вспышки могло хватить только на то, чтобы ощутить всю бесчеловечность перехода из одной пустоты в другую.
Но я думаю, что тете это только показалось. Она любила, чтобы все было красиво, а для этого ей приходилось многое преувеличивать.
Сейчас я жалею, что ничего хорошего ему в жизни не успел сделать. Разве что угощал его сладкой водичкой да в баню с ним ходил. Он очень любил мыться. В бане он ничем не отличался от остальных посетителей и только больше других стеснялся, каким-то библейским жестом руки стараясь прикрыть свою наготу.
Я вспоминаю чудесный солнечный день. Дорога над морем. Мы идем в деревню. Это километров двенадцать от города. Я, бабушка и он. Впереди дядя, мы едва за ним поспеваем. Он обвешан узелками, в руках у него чемоданы, а за спиной самовар. Начало лета. Еще не пыльная зелень и не знойное солнце, а навстречу упругий морской ветерок, дорожной сладостью новизны холодящий грудь. Бабушка попыхивает цигаркой, постукивает палкой, а впереди дядя с солнечным самоваром за спиной. И он поет свои бесконечные песенки, потому что ему хорошо и он чувствует бодрую свежесть летнего дня, заманчивость этого маленького путешествия.
Нет, все-таки жизнь и его не обделила счастливыми минутами. Ведь он пел, и пение его было простым и радостным, как пение птиц.
Богатый Портной и хиромант
Богатый Портной, как и положено Богатому Портному, занимал три комнаты в верхнем этаже нашего дома. Раньше, говорят, он жил во дворе в маленькой хибарке вроде той или даже в той, в которой сейчас жил дядя Алихан, продавец восточных сладостей.
Но потом, говорят, дела его пошли в гору, и он, соответственно, как думал я, перебрался на второй этаж.
Сначала в одну комнату, и она нависала над двором как деревянная скала, и тут уже можно сказать, он вылупился и предстал перед всеми в своем новом обличье, а именно в обличье Богатого Портного.
Вообще-то звали его Сурен, и Богатым Портным его сначала называли за глаза, но потом, видя, что он не обижается, все чаще и чаще стали называть его так и в глаза.
— Какой я богатый, — бывало, говорил он, ласково отмахиваясь от прозвища.
Будь в нашем доме множество этажей, думал иногда я, он так и перебирался бы с одного на другой, так и поднимался бы все выше и выше. Но дом имел всего два этажа, и перебираться Богатому Портному больше было некуда, хотя стремление оставалось. Поэтому он сначала расширил насколько мог эту взлетную площадку, а потом приобрел себе земельный участок и стал строить собственный дом.
Иногда Богатый Портной со всей семьей отправлялся отдыхать на участок. Сборы были шумными и долгими. Несли с собой кастрюли, тарелки, провизию, примус. Маленький, победный, кучерявоголовый, сам он шел всегда впереди со свернутым в трубу ковром на плече.
Вечером возвращались. Богатый Портной усаживался на балконе и начинал хвалить свой участок.
— Один воздух — миллион стоит! — громко сообщал он.
— А что там за воздух? — удивлялся кто-нибудь из соседей, потому что участок этот был расположен в полукилометре от дома, где там взяться какому-то особенному воздуху, было непонятно.
— Речка журчит, и все время кушать хочется! — сам удивляясь, говорил он.
— Неужели все время?
— Да! — восторженно подтверждал он с балкона. — Только что покушал, опять кушать хочется — такой воздух! По сравнению с ним Кисловодск — тьфу!
При этом Богатый Портной и в самом деле плевал с балкона, на минуту помешкав, чтобы не попасть в прохожего.
На участке у него стояла сосна. Он ее тоже хвалил как особенно красивую. Он и дятла хвалил, который иногда прилетал на эту сосну.
— Опять мой дятел прилетал, — говорил он, — хвост прижмет к дереву и долбит, долбит, так что опилки летят! Тоже кусок хлеба ищет — интересная птица!
Строительство нового дома на участке длилось множество лет и доставляло ему массу хлопот, которые он выдавал за особую форму наслаждения. Так, например, фруктовый сад с мандаринами, грушами, хурмой, заложенный на участке, стал плодоносить гораздо раньше, чем он выстроил дом, потому что рост растений никак не связан с добычей строительных материалов, тем более левых, не говоря уж о найме удальцов-шабашников.
Когда стали плодоносить груши дюшес, ему пришлось купить охотничье ружье и время от времени ходить по ночам сторожить свой участок, потому что груши поворовывали.
Так как ходить туда часто он не мог, ему приходилось, видимо, для острастки тамошних соседей иногда инсценировать удачную оборону фруктовых деревьев от хулиганских набегов. По слухам, эти стычки сопровождались выстрелами, криками и лаем дворовой Белочки, которую он приспособил таскать к себе на участок. Я пытался прятать от него нашу Белочку, но сделать это было трудно, потому что Богатый Портной был настойчив и всесилен.
— Белочка, купаться, — бывало, говорил я ей тихо, видя, что Богатый Портной собирается на вахту. Купаться Белочка не любила и тут же забивалась в подвал или убегала на улицу. Все равно он обычно ее находил и вылавливал.
Через некоторое время она сама до того возненавидела эти усадебные развлечения, что если кто-нибудь при ней просто так начинал говорить про участок, то она, услышав это слово, забивалась в подвал, и вытащить ее оттуда стоило большого труда.
Иногда, уходя сторожить на свой участок, он в тот же вечер возвращался домой. Посторожит часа два-три, покажется соседям, может быть, пальнет в воздух, а потом тайно уходит домой.
Однажды я видел, как ночью, возвращаясь домой, он перелезает через забор соседнего школьного двора. Тогда мне показалось, что это он делает для сокращения дороги. Но потом я догадался, что этот маневр был направлен и против ребят с улицы, чтобы и они думали, что он остался сторожить свои фрукты.
Днем в послеобеденное время он иногда приезжал с участка на мотоцикле своего кунака, известного в городе автоинспектора. Обычно он сидел в коляске, по пояс погруженный в груши и хурму, как маленький кучерявый бог плодородия.
Подъехав к дому, он кричал кому-нибудь из своих, и ему выносили корзину, после чего он часть плодов вытаскивал из коляски, а часть оставлял.
Автоинспектор в таких случаях сидел прямо за рулем, не оборачиваясь и даже стараясь не шевелиться. Чувствовалось, что автоинспектор не оборачивается и даже не шевелится, чтобы показать хозяину, что он никакого давления на него не оказывает, мол, как хочешь, так и дели. А с другой стороны, он не оборачивается, чтобы для окружающих получилось, что он и не знает, чего это там Богатый Портной возится в коляске, чтобы потом на всякий случай можно было сказать:
— Ты смотри, оказывается, он там груши оставил!
Я знал, что Богатый Портной его нарочно возил на свой участок, чтобы показать тамошним жителям свою близость к органам наведения порядка.
Автоинспектор появлялся в доме Богатого Портного, как правило, после большого дворового скандала, в котором принимала участие семья Богатого Портного. И хотя сам автоинспектор в эти скандалы никогда не вмешивался (чего не было, того не было), все понимали, что это демонстрация силы.
Еще до того, как Богатый Портной стал ходить на участок с охотничьим ружьем и Белкой, он долго искал человека, чтобы нанять его сторожить свой сад. Кстати, все эти его ночные бдения с выдуманными или преувеличенными набегами и стрельбой закончились тем, что его самого прострелил ишиас, явно невыдуманный, хотя, может, и преувеличенный. Во всяком случае, в описываемое лето, как и во все последующие годы, он ходил мужественно прихрамывая, так что со стороны для тех, кто ничего не знал про ишиас, могло показаться, что он бывший участник гражданской войны.
Тогда на участке его стояла времянка, сколоченная на скорую руку, а поздней осенью ночи у нас бывают довольно промозглыми. Так что на следующий год, когда стали дозревать фрукты, он купил у одного загулявшего туриста спальный мешок и уже не выходил в осеннюю сырость во время дежурства на участке, а только время от времени просыпаясь в спальном мешке, высовывался из него, палил куда попало и снова засыпал.
Ребята с нашей улицы, те, что были постарше лет на пять-на шесть, договорились было унести его ночью в этом мешке и забросить на какой-нибудь участок, где собака позлее. Но потом все же не осмелились осуществить свой замысел, потому что было вполне вероятно, что он по дороге проснется и уж, по крайней мере, два выстрела из своей двустволки сделает и в закрытом мешке.
Все знали горячий нрав Богатого Портного. Однажды, разозлившись, он сбросил горшок с геранью на одного пацана, который надерзил ему, уверенный, что, покамест тот слезет со своего балкона, он успеет убежать куда-нибудь. К счастью, горшок с геранью пролетел мимо, но пацан этот здорово испугался.
Этими горшками всех калибров, от маленьких, величиной с кружку, до больших, величиной с бочонок, в которых росли столетники, цвела герань, пламенели канны, был уставлен весь балкон.
Балкон как бы представлял собой цветущий макет его будущей усадьбы. Здесь он обычно отдыхал, а чаще гладил, громко прыская водой по материалу.
Бывало, наберет в рот воды, а потом почему-то передумает поливать сукно, а то и не передумает поливать, а что-то срочно надо ответить кому-то на улице, так он, чтобы не пропадала вода, фыркнет ее на цветок и потом уже говорит. А то, бывало, и поливать сукно не передумал и вроде некому срочно отвечать, но так случайно упадет взгляд на цветок, и вдруг Богатый Портной весь подобрался, насторожился, словно село на растение какое-то зловредное насекомое или он почувствовал, что, оказывается, оно умирает от жажды, и вот он быстро наклоняется и фырк! А потом еще и еще, и уже успокоившись, снова берется за утюг.
Надо сказать, что по мере расцветания участка цветник на балконе приходил постепенно в упадок. Возможно даже, что горшок с геранью, выброшенный на того пацана, был первым еще неосознанным признаком его охлаждения к цветнику. Можно даже сказать, что в состоянии этой горячности проявилось начало его подсознательного охлаждения, хотя тогда еще его участок был далек от расцвета. После этого он еще дважды или трижды выбрасывал горшки с цветами на своих противников, но тогда уже упадок цветника на балконе был более или менее очевиден. Так воплощение всякого замысла приводит к грустному запустению мечты.
Я замечал, что и теперь он по привычке прыскает иногда на цветник, но где та сосредоточенность, настороженность, вкрадчивость любовной игры? Нет, теперь, заметив что-нибудь неладное в состоянии цветника, он небрежно, мимоходом брызнет изо рта, словно бросит кость опостылевшей собаке.
Семья Богатого Портного состояла из жены, тещи, время от времени навсегда уходившей из дому к родственникам, но потом неизменно возвращавшейся, и двоих детей — Оника и Розы.
Оник был мальчик наших лет, его Богатый Портной особенно любил и баловал. Бывало, поглаживает на балконе брюки или пиджак заказчика, прыскает изо рта и, поглядывая на улицу, где Оник катается на своем велосипеде, напевает песенку собственного сочинения:
Мой Оник симпатичка... (Брызг!)
Мой Оник моя птичка... (Брызг! Брызг! Брызг!)
Мой Оник, тру-ля-ля...
Так он с небольшими перерывами мог напевать часами, пока Оник не выходил из себя.
— Ну, хватит, папа, хватит! — кричал Оник, чувствуя, что ребята посмеиваются над ним за эти нежности.
— А что, разве не симпатичка? — спрашивал он и, чмокнув губами, посылал воздушный жирный поцелуй. Оник нажимал на педали.
Однажды Богатый Портной пришел в нашу школу, открыл класс во время урока, просунул туда голову, нашел глазами своего любимчика и, протягивая ему кулек, сказал:
— Оник, горячие пончики...
Класс, конечно, повалился от хохота. Даже учительница не смогла удержаться от смеха. Несколько лет после этого Оника в школе называли Горячий Пончик или просто Пончик.
Роза — девушка лет шестнадцати, вся в маму, хотя отчасти и в папу. Сам Богатый Портной был довольно пухленький, но не толстый, я думаю, его подвижность и нервность не давали ему располнеть.
— Моя Роза — алтынчик (золотце)! — говаривал он с гордостью.
Роза была, как и все очень полные девушки, застенчивой, потому что чувствовала некоторую вину за свою полноту. Позже такие девушки, если им удается выйти замуж за человека, который как раз эту полноту больше всего в них ценит, еще больше полнеют, одновременно вымещая на муже за все излишки застенчивости своей юности.
Конечно, так бывает не всегда. Если муж успевает вовремя спохватиться, то он, поддерживая в своей толстушке юношеское чувство вины, может сохранить в ее характере эту приятную застенчивость и даже развить ее до чувства постоянной благодарности.
Впрочем, до всего этого тогда было далеко, и Роза целыми днями играла на фортепьяно. Стрекотанье швейной машинки почти полностью заглушалось водопадами звуков, льющихся из этой музыкальной прорвы.
— Играй, алтынчик, играй! — слышался ласковый голос отца, если она вдруг замолкала. И Роза снова играла. Поговаривали, что он ее нарочно заставляет играть, чтобы заглушить свою швейную машинку. Нашего двора и улицы он, конечно, не боялся, но, видимо, все же считал приличней, если из квартиры целыми днями доносятся до улицы звуки фортепьяно, а не стрекотанье швейной машинки.
***
Однажды, воспользовавшись фальшивой рекомендацией, в дом Богатого Портного проник фининспектор. Он заказал себе костюм, дал Богатому Портному снять с себя мерку, после чего уселся за стол и стал писать акт.
Богатый Портной стал ему доказывать, что все это шутка, что он его узнал, как только тот появился на углу нашей улицы. Но фининспектор ему не поверил, и тогда Богатый Портной отказался подписать акт.
— Не имеет значения, — сказал фининспектор и, положив акт в карман, стал уходить.
— Хорошо, пока не показывай, — сказал Богатый Портной и, следя с балкона за уходящим фининспектором, добавил: — Вот человек, шуток не понимает.
Минут через десять он сам ушел из дому и в тот же день приехал домой на мотоцикле автоинспектора. Потом был долгий обед, и Богатый Портной провожал своего кунака до мотоцикла. Жена, Роза и Оник стояли на балконе.
— Помни, — сказал Богатый Портной, усадив его на мотоцикл и показывая рукой на балкон, — моя семья смотрит на тебя!
Автоинспектор уже включил мотор и вместе с мотоциклом как бы дрожал от нетерпенья.
— Помни! — повторил Богатый Портной еще более важно и поднял палец к небу. — Наверху — Бог, внизу — ты.
— Знаю, — снова сказал автоинспектор и поехал.
Богатый Портной еще немного постоял, глядя ему вслед. Жена и Роза махали рукой. Богатый Портной вошел в дом, жена и Роза перестали махать и тихо покинули балкон.
Три дня после этого Богатый Портной не показывался на балконе, а Онику не давали кататься на велосипеде. Роза играла какую-то грустную музыку, или, может быть, нам казалось, что музыка грустная, потому что деятельный дом Богатого Портного притих.
На третий день вечером Богатый Портной распахнул двери балкона и сказал на всю улицу:
— Рука руку моет, а свинья остается свиньей.
На следующий день уже весело стрекотала машинка, а Оник выволок на улицу велосипед.
Оказывается, автоинспектор узнал, что жена фининспектора, так удачно накрывшего Богатого Портного, работает в ларьке. Это и решило дело. Он уговорил своего друга, инспектора горсовета, поймать ее с поличным. Тот согласился.
В наших ларьках в те времена, как, впрочем, и в последующие, продавали водку в разлив. Это было выгодно и тем, кто ее покупал, и тем, кто ее продавал, и тем, кто проверял продающих, хотя, конечно, и не полагалось по закону.
И вот инспектор горсовета подошел к ларьку с одним человеком. Вернее, сам он стал сбоку у ларька, так, чтобы его не видно было, а того, своего дружка, подпустил к стойке.
Надо сказать, что продавщица была предупреждена, что из горсовета может кое-кто нагрянуть в этот день. У них там тоже свои люди есть. Поэтому она была очень осмотрительна в этот день и, прежде чем наливать водку в стакан, основательно высовывалась из ларька и смотрела направо и налево. После этого она наливала водку в стакан, закрашивала ее сиропом и подавала клиенту. Так что со стороны получалось, что человек пьет воду с сиропом.
И вот, значит, этот человек подходит и просит сто пятьдесят граммов.
Продавщица что-то заподозрила и сказала, что она водку в разлив вообще не продает.
— Знаю, — сказал этот человек, — но у меня так живот болит, прямо сил нет.
Дрогнуло сердце продавщицы, да и до закрытия ларька оставалось всего полчаса, и она уступила. Высунулась из окошка, посмотрела по сторонам и налила сто пятьдесят граммов. Конечно, знай она, кто там притаился сбоку, может, прежде чем наливать, выскочила бы из ларька да обежала бы его два-три раза, но тут сплоховала.
И вот она налила водку в стакан и, как водится, только хотела закрасить свой грех сиропом, как он потянул у нее стакан. Тут продавщица опять что-то заподозрила и хотела выхватить у него стакан с тем, чтобы вылить содержимое в мойку и в дальнейшем все отрицать. Но парень этот вцепился в стакан и отошел от прилавка, чтобы не расплескать вещественное доказательство.
Тут вышел на свет божий добрый молодец инспектор и, со смехом войдя в ларек, стал составлять акт, который продавщица, конечно, не подписала, ссылаясь на свое милосердие.
— Не имеет значения, — сказал инспектор и унес акт. Дальше все было просто. Автоинспектор свел интересы обеих сторон к одному банкетному столу в приморском ресторане. Стороны, сидя друг против друга, при свидетелях обменялись актами и, изорвав их в клочья, выбросили в море.
После этого, говорят, порядочно было выпито, потому что товарищ инспектора горсовета оказался очень веселым парнем. Он никому не давал передышки и то и дело хватался за живот, крича:
— Ой, ой, живот болит, налейте!
Тут, говорят, все падали от смеха, кроме фининспектора, которому все-таки эта шутка продолжала не нравиться.
Надо сказать, что после этой истории Богатый Портной с новыми клиентами стал гораздо осторожнее. Прежде чем впустить неизвестного в дом, он довольно основательно изучал его, разговаривая с балкона. Помню, одного хриплого толстяка он прямо-таки измучил. Тот стоял, придерживая одной рукой перевязанный шпагатом газетный сверток, в другой руке висела сетка с мушмулой. Богатый Портной, склонившись над перилами балкона, внимательно изучал его.
— Я от Гагика Марояна, — застенчиво косясь на сверток, сказал толстяк, — один костюмчик хочу.
— Нет, что ты, дорогой, — ответил он ему, расплывшись, — давно бросил. Пожалуйста, в мастерскую.
— Один летний, легкий костюмчик, — прохрипел толстяк.
— Что ты, дорогой, — повторяет он, стараясь определить, хитрит толстяк или в самом деле честный клиент. Он рыскает по нему выпуклыми глазками, не зная, за что зацепиться, и неожиданно спрашивает:
— Мушмула с участка?
— С базара, — отвечает толстяк, обливаясь потом. — Гагик сказал, пойди к Сурену...
— У меня тоже участок, — говорит Богатый Портной, — восемь японских корней мушмулы посадил, но пока не родит...
— Один аккуратный костюмчик...
— Что ты, дорогой! — восклицает Богатый Портной, как бы удивляясь тому, что люди еще помнят дела такой давности. — А какой Гагик тебя послал?
— Гагик Мароян...
— Ты смотри! — вдруг удивляется Богатый Портной, что этот человек знает именно Гагика Марояна, хотя тот с этого и начал. — Откуда ты его знаешь?
— С братом на фермзаводе работаю, — хрипит толстяк.
— Ты смотри, правильно! — еще больше удивляется он. — Легкие тоже слабые имеет?
— Да, имеет, — кивает толстяк, обливаясь потом, — как брата, прошу...
— Нет, что ты! — разводит руками Богатый Портной и вдруг добавляет: — А парторгом кто у вас?
— Миша Габуния, — хрипит толстяк, — майский костюмчик...
— Ты смотри, тоже правильно! — еще больше удивляется Богатый Портной. — Молодец Миша! Растет. Время такое...
— Один летний, легкий... — тянет хрипло толстяк.
— Нет, шить не шью! — наконец сдается Богатый Портной. — Просто так заходи, поговорим.
Толстяк заходит.
Вообще Богатый Портной не любил, когда на нашей улице появлялся какой-нибудь незнакомый человек. Бывало, смотрит на него сверху, потом вслед, поставив руку козырьком от солнца, потом пожимает плечами, в недоумении бормочет:
— Третий раз сегодня проходит... Другой улицы нет, что ли...
***
Но я чуть не забыл рассказать, как Богатый Портной нанимал сторожа на участок еще до того, как сам взялся за дело. То ли потому что он работу предлагал сезонную, всего на два-три месяца, то ли еще почему, но так он и не смог нанять себе настоящего сторожа. Он даже объявление вывесил во многих местах.
Я сам видел одно такое объявление на электрическом столбе прямо напротив выхода из стадиона. Словно он надеялся, что после футбольных состязаний нашему болельщику ничего не остается, как прочесть его призыв и пойти в ночные сторожа, тем более что наше местное «Динамо» все время проигрывало, хотя и подбрасывало всесоюзному футболу время от времени (а может, поэтому и проигрывало?) довольно значительных звезд. Достаточно сказать, что знаменитый нападающий московского «Спартака» Никита Симонян наш парень.
Объявление это гласило: «Ищу хорошего русского старика для сторожения фрукт. Если будет плотник или каменщик, еще лучше. Вторая Подгорная, дом 37, балкон на улицу, кричи: «Сурен».
То ли хорошие русские старики были приставлены к другим фруктовым садам, то ли еще что, но однажды к дому Богатого Портного подъехал на своем ослике известный в городе бродячий хиромант, человек с огненным взором и огненной бородой. Обычно он ездил на своем ослике по дворам и гадал.
— Последний русский дворянин и первый советский хиромант! — кричал он зычным голосом, остановившись посреди двора, подманивал к себе женщин. Женщины подходили и, украдкой утерев ладонь о фартук или халат, словно надеялись этим улучшить показания судьбы, протягивали руку. Хиромант гадал, не слезая с ослика. За гадание брал деньгами, продуктами или детской одеждой для своего многочисленного потомства. Иногда он появлялся возле нашей школы, где, также не слезая с ослика, за небольшую плату решал математические задачи для старшеклассников. В городе его считали не то ученым, не то полоумным, а точнее — полоумным, оттого что ученый.
Мой сумасшедший дядюшка, увидев его на ослике, приходил в радостное состояние и, показывая на него пальцем, говорил:
— Мулла едет, мулла!
Однажды он заехал к нам во двор. Там у него произошло небольшое столкновение с Богатым Портным, которое, по мнению некоторых людей, повлияло на их будущие отношения. Я это хорошо помню, потому что в это время, сидя на корточках посреди двора, мыл в лохани Белку.
Главное, что Богатый Портной в поисках сквозняка на этот раз спустился во двор и пил кофе по-турецки, который сюда ему принесла жена, хотя для обоих было бы проще, если бы он, выпив кофе, спустился вниз. Но он всегда так делал, если уж спускался во двор. Бывало, только спустится, а там считай до десяти, и глядишь: его жена появится с чашечкой кофе в одной руке, а то и со стульчиком в другой. Правда, стульчик иногда он выносил и сам, но кофе — никогда.
И как это она точно поспевала за ним, было трудно понять. Я даже подозревал, что они все это разыгрывали заранее, потому что Богатый Портной ко всем своим достоинствам еще и считал себя хозяином прекрасной семьи и свои редкие выходы во двор отчасти превращал в наглядные уроки семейной идиллии. Вот так он сидел и пил кофе, когда в калитку въехал на своем ослике огненнобородый хиромант.
— Воздух твое гаданье, — сказал Богатый Портной, дав ему проехать возле себя, — ни один человек не верит...
— Последний русский дворянин и первый советский хиромант! — воскликнул тот, не обращая внимания на Богатого Портного. Остановившись посреди двора, он бросал огненные взоры в окна и приоткрытые двери квартир.
Несмотря на заверение Богатого Портного, женщины окружили хироманта, а одна из них даже вынесла ослику арбузные корки. Я заметил по лицу Богатого Портного, что он уязвлен вниманием женщин к гаданию.
Первой протянула руку хироманту жена Алихана — Даша. Сам Алихан сидел у порожка своей хибарки и парил в теплой воде мозоли.
— Венерин бугор! — воскликнул хиромант, взглянув на Дашину ладонь. Женщины вздрогнули.
— Воздух! — несколько вяло откликнулся Богатый Портной.
Ослик хрустел арбузными корками, хиромант гадал Даше, иногда бросая взоры и на других женщин, после чего те, поеживаясь, запахивались в свои халаты.
Алихан парил в тазике мозоли и, приподняв круглые брови над круглыми глазами, доброжелательно прислушивался. Видно, гадание ничего плохого не предвещало.
Алихан очень любил свою вечно растрепанную Дашу. Из-за ее бурного прошлого и неряшливого настоящего во дворе Дашу считали плохой женой. Алихан хотел считать, что у него жена такая же, как у других, но двор и в особенности Богатый Портной время от времени напоминали ему, что жена его совсем не такая, как у других, а, пожалуй, похуже.
Поэтому он и сейчас с подчеркнутым спокойствием прислушивался к гаданию Даши и, поглядывая на Богатого Портного, как бы предлагал и ему проникнуться этим спокойствием. Но Богатый Портной этим спокойствием не проникался.
— Разве это дело, — сказал Богатый Портной, прислушиваясь к чуждому бормотанию хироманта, — в наше время только ремесло дает твердый кусок хлеба. Возьмем меня...
Он отхлебнул кофе и посмотрел на Алихана.
— Пусть гадает, — ответил Алихан доброжелательно, — каждый человек хочет иметь свое маленькое дело.
Богатый Портной еще раз отхлебнул кофе, поставил чашечку на землю возле себя и решительно поднял голову.
— Алихан, ты не мужчина, — махнул рукой Богатый Портной.
— Почему не мужчина? — встрепенулся Алихан.
— Я бы никогда своей жене не разрешил бы эти глупости, — кивнул Богатый Портной на хироманта и, приподняв чашечку, снова отхлебнул кофе.
— О Аллах, — сказал Алихан, уклоняясь от спора, — если это дает спокойствие, рахат, пусть гадает...
Алихан слегка прикрыл веки, прислушиваясь не то к гаданию, не то к действию теплой воды на ступни своих ног, изношенных и разбитых поисками утерянного после нэпа коммерческого счастья.
Видно, уклончивый ответ Алихана, а главное, внимание женщин двора к тому, что говорит хиромант, продолжало раздражать Богатого Портного. Он привык, чтобы слушали его, а тут все облепили хироманта с его осликом, а на него никто не обращал внимания.
Он критически прислушивался к тому, что говорит хиромант, но все же никак не мог к нему подступиться. Помогла его собственная жена. Она подошла к нему за пустой чашечкой, и он молча, кивком головы потребовал еще кофе.
— Как скажешь, Суренчик, — ответила жена хотя он ничего не сказал. Взяв чашку, она пошла к себе. Богатый Портной посмотрел ей вслед, потом перевел взгляд на гадающую простоволосую Дашу, потом на Алихана и удрученно покачал головой. На это Алихан немедленно обратил внимание и выразил недоумение, приподняв круглые брови над круглыми глазами.
— И у тебя жена русская, и у меня то же самое, — задумчиво сказал Богатый Портной, как бы удивляясь безумной игре природы.
— Ну и что? — промолвил Алихан, нарочно не замечая намек на безумную игру природы.
— У меня жена все равно как армянка, — сказал Богатый Портной не слишком громко, но с чувством, — все понимает, только не говорит...
— У каждой женщины свой марафет, — ответил Алихан примирительно и снова прикрыл глаза. Видно, он сначала ожидал более неприятных разоблачений, а в том, что его жена не похожа на армянку, он не находил ничего обидного.
Когда хиромант, закончив гадание, стал выезжать со двора, Богатый Портной окликнул его. Хиромант остановил ослика и, приподняв голову, как бы нацелился на него кончиком огненной бороды.
— Теперь ты мне скажи, — спросил Богатый Портной громко, — ишак в городской черте разрешается или не разрешается?
— Тебе лучше знать, антихрист! — воскликнул хиромант и тронул ослика.
Я в это время уже сидел на камне и держал Белку на коленях, обернув ее чистой тряпкой, ждал, когда она высохнет.
Богатый Портной растерялся не столько от самого оскорбления, сколько от неожиданного и непонятного слова «антихрист».
— Хахам! — все-таки успел он крикнуть ему вслед. Хиромант не обернулся, так что было непонятно, услышал он или нет.
Хахам жил в самом конце нашей улицы и занимался тем, что резал по праздникам гусей шумным грузинским евреям, по сравнению с которыми, как говорят те, что их сравнивали, одесские евреи кажутся глухонемыми. Кроме широкой черной бороды, к тому же, как утверждали знатоки, крашеной, но не потому, что она была рыжая, а потому что седая, он никакого сходства с хиромантом не имел.
— Хахам тоже имеет свою коммерцию, — сквозь сладостный стон напомнил Алихан. Сейчас, положив одну ногу в закатанной штанине на колено другой, он особой ложечкой расчесывал распаренную пятку. Занятие это всегда приводило его в тихое неистовство.
— Уф-уф-уф-уф, — постанывал Алихан, доходя до какого-то заветного местечка. Доходя до заветного местечка, — в каждой пятке у него было заветное местечко, — он замедлял движение ложки, наслаждаясь ближайшими окрестностями его, как бы мечтая до него дойти и в то же время пугаясь чрезмерной остроты наслаждения, которая его ожидает.
Богатый Портной некоторое время следил за Алиханом, слегка заражаясь его состоянием. В то же время на лице его было написано брезгливое сомнение в том, что такое никчемное занятие может доставлять удовольствие или приносить пользу.
— Не притворяйся, что так приятно, — сказал Богатый Портной, — все равно не верю...
— Уй-уй-уй! — застонал Алихан особенно пронзительно, поймав это заветное местечко и быстро двигая ложкой, как при взбалтывании гоголь-моголя.
— Холера тебе в пятку, — в тон ему ответила Даша, бросая на сковородку шипящие куски мяса. Она стояла над своим мангалом.
— Не люблю, когда притворяешься, Алихан! — с жаром воскликнул Богатый Портной, как бы еще больше заражаясь его состоянием и еще решительней его отрицая. — Никакого удовольствия не может быть...
Алихан, удивленно приподняв бровь, как-то издали сквозь райскую пленку наслаждения, немо глядел на Богатого Портного. Наконец движения руки его замедлились. Он опять перешел к окрестностям заветного местечка.
— Ну ладно, — сказал Богатый Портной и сделал рукой успокаивающий жест, — ну, ла, ла...
Богатый Портной сделал вид, что Алихан остановился под его командой, хотя ясно было, что Алихан остановился сам по себе.
— Чем фантазировать удовольствие, — сказал он, уже взяв в руки скамеечку и уходя, — лучше бы посторожил мой сад...
— Никогда! — просветленно воскликнул Алихан. — Я коммерсантом родился и коммерсантом умру.
— Подумай, пока не поздно, — проговорил Богатый Портной, подымаясь по лестнице.
Закончив свою мучительно-сладкую операцию с ногами, Алихан надел тапки, слил воду из тазика, тщательно промыл под краном свою ложку, спрятал ее и сел на свой стул. Вид у него теперь был ублаготворенный и особенно благожелательный.
— Дядя Алихан, — спросил я, — что такое антихрист?
— Шайтан, — просто и ясно ответил Алихан, но потом, решив дояснить, все запутал: — «Шайтан» говорят по-нашему, по-мусульмански, а по-гяурски говорят «антихрист». А так как сами «гяуры» по-нашему тоже «шайтаны», то получается, что «антихрист» — это «шайтанский шайтан»! — Ясный взор Алихана выражал готовность ответить на любые вопросы.
— Алихан, ужинать! — раздался голос его шайтанской жены, и Алихан, подхватив стульчик, поспешно вошел в свою комнату.
***
Тем же летом на объявление о найме сторожа откликнулся хиромант. Он подъехал к балкону Богатого Портного и позвал его.
Тот вышел на балкон, хмуро посмотрел вниз и сказал:
— Воздух твое гаданье!
— Я хочу сторожить твое именье! — закричал хиромант, дико хохоча и вкладывая в свои слова сатанинскую иронию, о которой ни мы, ни Богатый Портной не догадывались.
Нет, не такого человека ожидал Богатый Портной, но, видно, делать было нечего, никто не приходил наниматься.
— Объявление читал или кто-то сказал? — спросил он, хмуро выслушав его тираду.
— Весь город об этом говорит! — радостно закричал хиромант и всплеснул руками.
— Ляй-ляй-конференцию хватит, — мрачно прервал он его, — ишака привяжи, а сам подымись.
Хиромант так и сделал, и они обо всем договорились. Условия договора, конечно, не разглашались, но кое-что все-таки просочилось. Так, стало известно, что хироманту давалось право использовать по своему усмотрению паданцы и скосить всю траву на участке для прокормления ослика.
Примерно через месяц они в пух и прах разругались, и Богатый Портной изгнал его со своего участка. Тогда-то и выяснились некоторые условия договора.
Хиромант жил на горе, недалеко от участка Богатого Портного, можно сказать, прямо над ним. На этой горе были две сталактитовые пещеры. Так вот одну из них он оборудовал под жилье и жил в ней вместе с осликом и всем своим многочисленным выводком.
Оказывается, Богатый Портной проследил за ним и обнаружил, что тот под видом паданцев или вместе с паданцами тащит к себе в пещеру его груши и яблоки, из которых он гнал самогон. Гнать самогон в наших краях разрешается, но, разумеется, из собственных фруктов. Выяснилось это следующим образом.
Оказывается, жена Богатого Портного встретила на базаре жену хироманта. Та продавала самогон и при виде жены Богатого Портного сильно смутилась. Видя такую стыдливость жены хироманта, жена Богатого Портного подошла к ней и потребовала объяснения, хотя до этого и не собиралась подходить.
Испуганная жена хироманта во всем созналась. Она умоляла жену Богатого Портного никому об этом не говорить, потому что самогон она продает втайне от мужа из его зимних запасов. Так что, говорила она, если до него дойдут слухи о том, что она продавала самогон, он ее убьет или, что еще хуже, прогонит вместе с детьми.
Ну, жена Богатого Портного, конечно, не удержалась и все рассказала мужу, больше всего удивленная такому плохому отношению к собственным детям со стороны ученых людей. Он проследил за ним и однажды поймал его на тропинке, когда тот подымался к своей пещере, деловито погоняя ослика, нагруженного мешками с фруктами. Мешки были вскрыты, и тут же разразился неслыханный скандал, тем более что хиромант успел скосить и убрать с участка всю траву.
Недели через две он снова появился на нашей улице. Несмотря на летний день, правда пасмурный, хиромант был в пальто.
— Чатлах! — крикнул Богатый Портной с балкона, увидев его. Крикнул он это не слишком воинственно, так что, промолчи хиромант, может быть, все обошлось бы. Но хиромант молчать не стал.
— Ищу хорошего русского старика! — крикнул он в ответ и стал оглядывать улицу, словно удивляясь, куда он запропастился, этот хороший русский старик, словно только что он здесь был, а теперь куда-то делся.
Тут Богатый Портной от возмущения потерял дар речи и, схватив горшок со столетником, бросил его вниз. Горшок шлепнулся рядом с осликом и разбился вдребезги. Хиромант даже не дрогнул. Ослик его дернулся было, но потом потянулся мохнатой мордой и понюхал столетник, с комом земли выпавший из горшка.
Как только ослик двинулся дальше, Алихан, сидевший тут же на каменных порожках у входа в дом Богатого Портного, подошел к разбитому горшку, приподнял стебель столетника и, стряхнув с него землю, унес домой.
Кстати, сразу же, как только полетел горшок, Богатый Портной приобрел дар речи, словно тот стоял у него поперек горла, словно он выкашлял его, а не швырнул руками.
— Аферист! — кричал он, свешиваясь с балкона и передвигаясь, чтобы сопровождать ход ослика по улице. — Ты в пещере живешь, ты шакалка!
Хиромант невозмутимо продолжал ехать.
— Нищий, нищий! — вдруг с отчаянной радостью закричал Богатый Портной, словно нашел наконец точное слово. И в самом деле, видно, попал в точку. Хиромант снова остановил ослика.
— Я еще хожу в шелках! — крикнул он, оборачиваясь, и распахнул, почти вывернул пальто, так что чуть не выпала из внутреннего кармана слегка отпитая бутылка с вином.
Сверкнула золотистая подкладка, и в самом деле шелковая.
«Ах, вот для чего пальто!» — подумал я тогда, успев заметить, что вся она была в мелких-мелких трещинах.
Богатый Портной, видно, не ожидал такой подкладки. Во всяком случае, он на мгновение помешкал, оглядывая ее, но в следующий миг взвился, сердясь на себя за это унизительное внимание.
— Барахло твоя подкладка! — крикнул он. — Все знают, что я шил для наркома и буду шить...
Но ослик уже тронулся. Тут Богатый Портной быстро вошел в комнату, чтобы всем было ясно, что это он первым закончил спор.
— Последний русский дворянин и первый советский хиромант! — уже издали раздался голос хироманта. Услышав его, Богатый Портной почему-то снова выскочил на балкон.
— Воздухтрест! — проговорил он, больше обращаясь к улице, чем к самому хироманту. — Все равно никто не верит...
Про этого наркома Богатый Портной довольно часто вспоминал, хотя на нашей улице его никто не видел. Правда, несколько раз за Богатым Портным заезжала легковая машина, но принадлежала ли она наркому, трудно сказать.
— Белый телефон стоит, — рассказывал он про квартиру наркома, — куда хочешь соединяет! Люди — живут.
***
Сейчас я расскажу о великом споре между Алиханом и Богатым Портным. Но прежде чем излагать суть дела, я должен дать вам ясное представление о расстановке сил, о стратегических выгодах и слабостях той и другой стороны, чтобы драма идей, заключенная под внешне незначительным поводом спора, раскрылась во всем своем тайном величии.
Хибарка Алихана, как это легко догадаться, никакого балкона не имела, потому что стояла прямо на земле. Поэтому после работы он иногда отдыхал во дворе, но чаще всего он отдыхал на улице, на каменных ступеньках у входа в парадную дверь Богатого Портного. Тот, сидя на балконе, переговаривался с Алиханом, а чаще из-за своего полемического свойства спорил с ним. Иногда Алихан поднимался к нему на балкон поиграть в нарды или попить кофе, но Богатый Портной вниз к нему никогда не спускался.
Как видно из рассказанного, Богатый Портной был человеком нервным и самолюбивым, тогда как Алихан (бывший владелец кофейни-кондитерской), хоть и продолжал именовать себя коммерсантом, как человек давно все потерявший, был спокойным и ровным. Единственное, в чем он проявлял упорство, — это постоянное отстаивание звания коммерсанта.
Когда разновидность восточных сладостей в его передвижном лотке сократилась до козинак, он не впал в уныние, а стал заполнять свой полупустой лоток жареными каштанами.
— Алихан, — говорил ему Богатый Портной, — изучи ремесло, а то скоро семечки будешь продавать.
— Семечки — никогда! — твердо отвечал Алихан, как бы давая знать, что продажа жареных каштанов входит в шкалу продуктов коммерческой деятельности, хотя и не занимает в ней высокого места, тогда как продажа семечек — это распад, разложение, полная сдача позиций.
Таким образом, Алихан в спорах с Богатым Портным имел свои сильные стороны и твердые убеждения. Но и Богатый Портной, возвышаясь над ним на балконе и охватывая голосом большее пространство, как бы в силу самого положения вещей имел свои преимущества.
Получалось, что он отчасти обращается к соседям, которые, выглядывая из окон ближайших домов и балконов, кивали ему, особенно в жару, в знак согласия. Кивать было удобно, потому что большинство этих кивков сидящий внизу Алихан не замечал. Так что они и его не обижали.
Но и Алихан, опять же в силу самого положения вещей сидевший на низком крыльце у входа в дом Богатого Портного, был до некоторой степени неуязвим, то есть чувствовалось, что скинуть-то его неоткуда, что он и так до того приземлен, что уже почти сидит на земле. А положение человека, сидящего на земле, как бы мы сказали теперь, получив высшее образование, при многих неудобствах обладает диалектической прочностью — что-что, а шлепнуться на землю ему не страшно.
Теперь перехожу к сути главного спора Алихана с Богатым Портным.
Метрах в двадцати от нашего дома была речушка или канава, как ее достаточно справедливо тогда называли. Под каменным мостом она пересекала улицу. У самого моста с той стороны улицы был очень крутой спуск, переходящий в тропинку, которая подымалась вдоль русла вверх по течению. Обычно воды в этой речушке было так мало, что редкая птица решалась ее перелететь, проще было перейти ее вброд, что и делали чумазые городские куры.
Только изредка, когда в горах шли грозовые ливни, она вздувалась и на несколько часов превращалась в могучий горный поток, а потом снова мелела.
С некоторых пор на нашей улице стал появляться странный велосипедист. Странность его уже заключалась в том, что раньше он никогда здесь не появлялся, а теперь вдруг стал появляться. Жители нашей улицы едва свыклись с этой его странностью, как заметили за ним еще большую странность. Он доезжал до самого обрывистого спуска у моста и только тогда (ни шагом раньше) тормозил, слезал с велосипеда, приподымал его и, быстро спустившись в канаву, исчезал на тропе.
Можно было предположить, что живет он где-то там повыше, над речкой, но почему он раньше здесь не появлялся, а теперь вдруг стал появляться, было непонятно. А главное — это его упрямство, с каким он доезжал до самого края канавы, так что переднее колесо даже слегка высовывалось над обрывом, и только после этого тормозил.
Сначала мы все решили, что это он так делает для форсу, но потом заметили, что он никакого внимания на улицу не обращает, что было почему-то неприятно. Выходило, что все это он делает не для форсу. Тогда для чего? Этого никто не понимал, и Богатый Портной начал раздражаться. Несколько дней он молча присматривался к нему, а потом не выдержал.
— Интересно, — сказал он однажды с балкона, обращаясь к Алихану, который сидел внизу, — когда он сломает шею, на этой неделе или на следующей?
— Никогда, — ответил Алихан, перебирая четки.
— Откуда знаешь? — с брезгливым вызовом спросил Богатый Портной и высунулся над балконом.
— Так думаю, — миролюбиво ответил Алихан.
— То, что ты думаешь, я давно забыл, — сказал Богатый Портной, — но я буду последним нищим, если он не сломает себе шею или ногу.
— Ничего не сломает, — бодро ответил Алихан и, приподняв свои круглые брови над круглыми глазами, посмотрел наверх, — он свое дело знает.
— Посмотрим, — сказал Богатый Портной с угрозой и, отложив шитье, добавил: — А пока подымись, я тебе один «Марс» поставлю...
— «Марс» — это еще неизвестно, — сказал Алихан, вставая, — но этот человек свое дело знает.
Дни шли, а велосипедист продолжал приезжать в своей кепке, низко надвинутой на глаза, в сатиновой блузе с закатанными рукавами, в замызганных рабочих брюках, стянутых у щиколоток зажимами, и, конечно, каждый раз останавливался над самым обрывом, и ни шагом раньше. При этом он ни малейшего внимания не обращал на жителей нашей улицы, в том числе и на Богатого Портного. Я не вполне исключаю мысль, что он вообще не знал о его существовании.
— Так и будет останавливаться со своим дряхлым велосипедом, — сказал однажды Богатый Портной, тоскливо проследив за его благополучным спуском в канаву.
— Так и будет, — бодро отвечал снизу Алихан, — человек свое дело знает.
— Ничего, Алихан, — покачал головой Богатый Портной, — про Лоткина ты то же самое говорил.
— Лоткин тоже свое дело знал, — ответил Алихан и, раскрыв рот, показал два ряда металлических зубов, которые мы почему-то тогда считали серебряными, — как мельница работают.
— А Лоткин где? — ехидно спросил Богатый Портной.
— Лоткин через свое женское горе пострадал, — отвечал Алихан, слегка раздражаясь, — а при чем здесь этот человек?
— Ничего, — пригрозил Богатый Портной, — живы будем, посмотрим.
Несколько лет тому назад Лоткин поселился рядом с нашим домом. На дверях своей квартиры он повесил железную табличку с надписью: «Зубной техник Д. Д. Лоткин».
Лоткина у нас считали немножко малахольным, потому что он ходил в шляпе и макинтоше — форма одежды, не принятая на нашей улице тогда, а главное, все время улыбался неизвестно чему.
Бывало, розовый, в шляпе и в распахнутом макинтоше, идет себе по улице с немного запрокинутой и одновременно доброжелательно склоненной набок головой и улыбается в том смысле, что все ему здесь нравится и все ему здесь приятно.
Особенно он расцветал, если встречал на пути какую-нибудь маленькую девочку. А таких девочек на нашей улице было полным-полно. Бывало, присядет на корточки перед такой девочкой, почмокает губами и протянет конфетку.
— Этот человек плохо кончит, Алихан, — говаривал Богатый Портной, проследив за ним, пока тот входил в дом или выходил из дому.
— Почему? — спрашивал Алихан, подняв голову.
— Есть в нем не то, — уверенно говорил Богатый Портной.
— Докажи! — отзывался Алихан.
— Если человек все время улыбается, — пояснял Богатый Портной, — значит, человек хитрит.
Лоткин жил вдвоем с женой, и когда, бывало, выходил с ней на улицу, все смотрели им вслед. Жена его, высокая, выше Лоткина, тонкая женщина, говорили — красавица, проходя, обычно опускала голову, углы губ ее были слегка приподняты, словно она едва сдерживала усмешку, как бы стыдясь за своего Лоткина. А он знай себе идет, размахивая руками и ничего не понимая, улыбается направо и налево, здоровается, приподымая шляпу, и в то же время рыскает глазами, нет ли где поблизости сопливой девчонки в кудряшках, главное, была бы поменьше, умела бы подымать и опускать глаза да еще протягивать руку за конфеткой.
— Ах ты моя куколка золотая...
Однажды мы пошли купаться в море в такой компании: я со своим отцом, Оник со своим Богатым Портным и Лоткин с женой. Помню, всю дорогу Богатый Портной как-то подшучивал над Лоткиным, делая вид, что он о нем знает что-то нехорошее, а что именно, было неясно. Мне кажется, он завидовал Лоткину, что у него такая красивая жена. Лоткин почему-то на эти насмешливые намеки Богатого Портного не отвечал, а только сопел и все улыбался, прикрывшись от солнца свернутой газетой. На этот раз он был без шляпы.
Вблизи улыбка его показалась мне какой-то напряженной. Было неприятно, что жена его все так же опускала голову, чуть улыбаясь краями губ. Чувствовалось, что она поощряет Богатого Портного, во всяком случае на его стороне. Тогда я не особенно прислушивался к тому, что они говорили, потому что меня самого угнетало тревожное предчувствие, что отец мой окажется в кальсонах.
Так оно и оказалось. Отец разделся в сторонке и, закатав кальсоны, вошел в море. Отец мой прекрасно плавал, и в воде было, конечно, незаметно, что он в кальсонах, но рано или поздно надо было вылезать из воды, и это растравляло мое сыновнее самолюбие.
Богатый Портной в трусах с голубыми кантами — мы их называли динамовскими — плескался у самого берега, как младенец. Он не умел плавать, но так как он сам нисколько не стыдился этого, получалось, что он просто не хочет идти в море. Я заметил, что Лоткин в воде пытался заигрывать с женой, но она в море относилась к нему еще хуже, чем на суше.
Однажды рано утром я проснулся от тревожного шума, идущего с улицы.
— Лоткин жену зарезал, — услышал я чей-то голос, и чьи-то шаги за окном заторопились, боясь упустить зрелище.
Я вскочил и выбежал на улицу. Возле лоткинского крыльца стояла небольшая толпа и машина «скорой помощи». Обе створки дверей его квартиры были как-то не по-жилому распахнуты, словно их распахнул взрыв случившейся катастрофы. Толпа колыхнулась, в зиянии дверей появились санитары с носилками, прикрытыми простыней.
Когда санитары спустились с крыльца, я увидел слабое очертание тела, лежавшего под простыней. Кисть руки высовывалась из-под простыни и, непомерно длинная, свисала с края носилок.
Когда машина уехала, я с некоторыми ребятами с нашей улицы сумел пробраться в дом и увидел разоренную комнату с разбросанными вещами, с широкой кроватью, на которой простыни и одеяла были вздыблены и перекручены, как бы хранили следы ужаса и борьбы. Видно, она как-то сопротивлялась. Над постелью на стене остались отпечатки окровавленных пальцев. Пятна следов подымались над постелью все выше и выше, и чем выше они поднимались, тем слабее становились кровавые отпечатки пальцев. Казалось, жена Лоткина пыталась уйти от него, карабкаясь по стене. Говорили, что он ее зарезал бритвой.
Лоткина я больше не видел. Его увели милиционеры раньше, чем я туда пришел. Об этом случае долго толковали на нашей улице, и смысл этих толков сводился к тому, что он ее любил, а она его не любила или любила другого.
После этого случая самоуважение Богатого Портного усилилось, потому что получалось, что он один предвидел, чем это все кончится. И вот теперь в спорах с Алиханом Богатый Портной напоминал ему о Лоткине, который перед самой этой ужасной историей успел вставить Алихану зубы.
А между тем велосипедист продолжал с непонятным упрямством подъезжать к самому краю обрыва и по-прежнему, не обращая ни малейшего внимания на окружающих, благополучно тормозил, приподымал велосипед и спускался в канаву.
— Чтоб этот балкон провалился, если он не сломает себе шею, — сказал однажды Богатый Портной, проследив за этой неумолимой процедурой.
— Его велосипед, его шея, — тут же отозвался Алихан, — какое твое дело?
— Порядочный человек так не делает, — сказал Богатый Портной, сумрачно из кружки поливая цветник. Теперь он поливал цветы прямо из кружки, тогда как раньше всегда сначала набирал воду в рот, а потом уж прыскал.
— А как делает? — спросил Алихан, подымая голову. Богатый Портной вбросил кружку в ведро с водой и посмотрел вниз на Алихана, помедлил, собираясь с мыслями.
— Во-первых, порядочный остановит свой велосипед хотя бы за пять-шесть шагов, — начал он, — во-вторых, посмотрит вокруг и поздоровается с соседями, а потом уже пойдет в свою канаву... Лоткин и то лучше был, — неожиданно добавил он.
— Почему? — удивился Алихан.
— Лоткин хотя бы от души здоровался со всеми, — сказал Богатый Портной, — а этот нас за людей не считает!
— Тогда скажи, за кого считает, — быстро спросил Алихан.
— За барахло считает, — мрачно сказал Богатый Портной, — даже кепку ехидно надевает... Мол, на вас даже смотреть не хочу, так надевает, — пояснил Богатый Портной и добавил, возвращаясь к привычной лоткинской версии: — Лоткин шляпу надевал, и то у него номер не получился...
— При чем тут Лоткин! — закричал Алихан. — Лоткин через свое женское горе пострадал.
— А этот через свое упрямство пострадает, — сказал Богатый Портной и пророчески погрозил пальцем в воздухе.
Дни шли, а человек на велосипеде, все так же нахлобучив кепку на самые глаза, продолжал подъезжать к самому обрыву.
Иногда Алихан запаздывал со своей тележкой и, появляясь на улице, смотрел на балкон, взглядом спрашивая у Богатого Портного: мол, как там дела? Богатый Портной в ответ молчал, из чего следовало, что возмездие все еще предстоит.
Иногда сам велосипедист запаздывал, и тогда Богатый Портной, если был занят у себя в комнате, время от времени выходил на балкон и посматривал на улицу. При этом он старался сделать вид, что просто так вышел. Якобы так, беззаботно посмотрит в одну сторону, откуда должен был появиться велосипедист, потом в другую сторону, хотя в другую сторону ему и не надо было смотреть, потому что он оттуда никого не ожидал.
Ребята с нашей улицы обычно в такое время сидели на травке у забора как раз напротив его балкона и, конечно, все понимали. Особенно было смешно, когда он выходил, что-нибудь жуя, потому что в это время он ужинал и вставать из-за стола у него не было никаких причин, кроме желания не пропустить ненавистного велосипедиста.
В таких случаях, если он задерживался на балконе, жена его звала из глубины квартиры и, если он не сразу возвращался, сама появлялась и слегка подталкивала его в комнату. Лениво жуя, она сама в последний раз бросала взгляд вдоль улицы и исчезала.
— Едет! Едет! — иногда кричали наши ребята, когда велосипедист появлялся в конце квартала, а Богатого Портного на месте не было.
— Ну и что?! — кричал Богатый Портной, выскочив на балкон. — Подумаешь, какое мое дело!
А сам оставался на балконе, пока не убедится, что упрямый велосипедист и на этот раз невредимым сошел в свою канаву. Если в это время Оник где-нибудь поблизости катался на велосипеде, он, кивнув в его сторону, говорил Алихану:
— Какой пример детям показывает, а?
— Какой пример? — удивлялся Алихан.
— А если Оник захочет то же самое?
— Никогда не захочет, — уверенно отвечал Алихан.
— Оник! — кричал Богатый Портной яростно. — Если будешь крутиться возле канавы, как Лоткин, задушу тебя своими руками!
— Я не кручусь, папа! — отвечал Оник и отъезжал подальше от канавы.
Дни шли, а велосипедист продолжал целым и невредимым подъезжать к самому краю обрывистого спуска. И когда Богатый Портной отводил от него глаза, полные гневного недоумения, то, как правило, встречался с приподнятыми на него ясными глазами Алихана.
— Я тебе говорю, — кивал Алихан, — этот человек свое дело знает.
— Чем даром здесь сидеть, — злился Богатый Портной, — лучше бы пошел сторожить мой сад.
— Я коммерсантом родился, коммерсантом умру, — спокойно отвечал ему Алихан.
— Твоя коммерция — воздух! — говорил Богатый Портной и, плюнув на руку, громко шлепал ею по днищу утюга.
— Эй, гиди, время, — вздыхал Алихан и, покачивая головой, смотрел на него, как бы распределяя свой упрек между вечностью и Богатым Портным.
Однажды велосипедист появился, держа под мышкой буханку хлеба. На этот раз он руль держал одной рукой и ехал гораздо медленней. Мы все, а в особенности Богатый Портной, ожидали, что он хоть на этот раз остановит свой велосипед пораньше. Но он и теперь доехал до самого края и затормозил, как обычно.
После этого случая мы стали замечать, что он довольно часто проезжает то с буханкой хлеба под мышкой, то с корзиной на руле и каждый раз благополучно сходит в свою канаву.
— Хоть бы в газету завернул, — сказал однажды Богатый Портной, имея в виду хлеб, который тот привозил.
— Его хлеб, как хочет, везет, — ответил Алихан.
— Ты думаешь, что он будет делать, если хлеб упадет в канаву? — неожиданно спросил Богатый Портной.
— Ничего, — несколько рассеянно ответил Алихан.
— Подымет и покушает, — уверенно сообщил Богатый Портной и быстро вошел в комнату.
Однажды человек на велосипеде приехал с коровьей головой, которую он держал за рог в слегка оттянутой, чтоб не закапать велосипед, левой руке. Богатый Портной обомлел и замер на своем балконе, увидев такое. Покамест тот спускался в канаву, он, несколько раз качнув головой, даже присвистнул: дескать, дождались.
— Алихан, что это? — тихо спросил Богатый Портной, приходя в себя.
Алихан на этот раз сидел, слегка насупившись, как бы признавая свою некоторую ответственность за поведение велосипедиста и в то же время готовый оказать сопротивление ввиду не такой уж значительности самого проступка.
— Ничего, — ответил Алихан сухо.
— Как ничего, Алихан?! — простонал Богатый Портной, умоляя его хотя бы не отрицать того, что каждый только что видел своими глазами.
— Коровина голова, больше ничего, — сказал Алихан и, подняв собственную голову, твердо посмотрел ему в глаза, как бы отбрасывая всякую возможность мистического толкования этого события.
— Он что, на бойне работает? — спросил Богатый Портной с таким глубоким изумлением, словно, окажись велосипедист работником бойни, сразу же можно было бы этим объяснить и все остальные его странности.
Алихан хаживал на бойню, где доставал потроха для хаша. Иногда он их приносил и Богатому Портному. Алихан хорошо знал всех работников бойни.
— Зачем на бойне, — сказал Алихан просто, — на базаре тоже продают.
— Дай Бог мне столько здоровья, за сколько он эту голову купил, — ответил Богатый Портной.
— Тогда скажи, где взял?! — воскликнул Алихан.
— Где взял, не знаю, — ответил Богатый Портной, успокаиваясь оттого, что Алихан начинал сердиться, — но Лоткина ты тоже защищал...
— При чем Лоткин, при чем голова! — закричал Алихан и, неожиданно взмахнув рукой, добавил: — Иди в свою комнату!
— На моем сидит и меня прогоняет, — задумчиво сказал Богатый Портной, обращаясь ко всей улице и как бы давая через этот маленький пример всем убедиться, какой Алихан несправедливый человек.
Однажды велосипедист особенно долго не возвращался. У Богатого Портного в доме был клиент, так что с балкона он не мог следить за тем, что происходит на улице. Он только время от времени выскакивал на балкон, чтобы не пропустить велосипедиста.
— Я скажу, когда будет, ты иди, — говорил ему Алихан и гнал его с балкона.
Человек пятнадцать ребят с нашей улицы, как обычно, сидели на лужайке напротив балкона Богатого Портного. Уже и видно было плохо, когда велосипедист появился на углу.
— Едет! Едет! — хором закричали ребята, опережая Алихана.
— Ну и что?! Пускай едет! — выскочив на балкон, стал огрызаться Богатый Портной, но внезапно замолк, увидев велосипедиста. И тут все сразу заметили, что на этот раз он едет как-то странно, велосипед страшно вихлял. Никто не мог понять, в чем дело. Первым догадался Алихан.
— Клянусь Аллахом, он пьяный! — воскликнул Алихан и даже встал.
— Не мое дело! — радостно отозвался Богатый Портной и, обернувшись в комнату, крикнул: — Эй, сюда, сюда!
На балконе появились жена Богатого Портного и клиент в пиджаке без рукавов, впрочем, один из рукавов Богатый Портной держал в руке.
— В чем дело? — спросил клиент, глядя на свой рукав, которым беспрестанно взмахивал Богатый Портной.
— Потом, потом, туда смотри! — воскликнул он и от нетерпения заходил ходуном по балкону.
— Пьяный не считается! — крикнул Алихан в сильнейшем возбуждении.
— Спор есть спор! — выкрикнул Богатый Портной, взмахивая рукавом.
— Пьяный и без велосипеда может упасть! — не сдавался Алихан.
— Будь мужчиной, Алихан, спор есть спор! — еще успел крикнуть Богатый Портной.
Все мы, ребята с нашей улицы, оцепенев от волнения и какой-то странной жути, ждали, что будет. Метров за десять от канавы он, словно вспомнив об опасности, казалось, сворачивает на мост, но потом поехал дальше. Подъехав к обрыву, он притормозил и мгновенье, балансируя рулем, стоял над обрывом, словно решая, а не спуститься ли на велосипеде, но нет — накренился и стал одной ногой на землю.
Взрыв рукоплесканий, свист и вопли восторга поднялись над лужайкой, как над трибунами стадиона. Богатый Портной даже как-то подпрыгнул на своем балконе, что-то крича и махая рукой в знак яростного протеста.
И тут, кажется, впервые этот человек поднял голову и удивленно посмотрел вокруг. Увидев нас, пацанов, он улыбнулся нам слабой улыбкой пьяного, не вполне понимающего, в чем дело, человека. Потом он, как обычно, поднял велосипед и, пошатываясь, сошел с обрыва. Богатого Портного он, по-моему, так и не заметил.
На следующий день в гости к Богатому Портному приехал автоинспектор. Я уверен, что Богатый Портной жаловался ему. После долгого обеда они вышли на улицу и разговаривали, стоя у заведенного и повернутого в нужную сторону мотоцикла. Это было всем заметно, да они, а в особенности Богатый Портной, и не скрывали этого.
Как только на углу появился велосипедист, автоинспектор вскочил в седло и, извергая апокалипсические громы (уж не снял ли он нарочно глушители?!), рванул с места на большой скорости и через несколько секунд в тучах пыли, скрывшей обоих, остановился возле велосипедиста.
Когда осела пыль, мы увидели, что велосипедист стоит возле автоинспектора, хотя в то же время продолжает сидеть в седле, только протянул к земле одну ногу.
По лицу Богатого Портного было видно, что сама поза велосипедиста ему не нравится. Не то чтобы автоинспектор обещал наехать на него, но, видно, обещал пугануть упрямца как следует, да, видно, что-то не так получилось.
Они разговаривали, как равный с равным, и даже оба сидели в своих седлах. И только велосипедист что-то говорил, довольно независимо кивая головой в сторону речушки.
Постепенно их окружили мужчины с нашей улицы, в том числе и Алихан. Как водится в таких случаях, они их слушали с важным видом, а иногда и сами что-то вставляли. Оник объезжал всю эту группу на своем велосипеде, на ходу прислушиваясь к тому, что они говорили. Богатый Портной к ним так и не подошел, а остановился поблизости, как не слишком заинтересованный, но все же любопытствующий человек. Время от времени он, не слишком улавливая теченье разговора, вставлялся одной и той же фразой:
— Нет, если для детей не вредно, пожалуйста...
Наконец, велосипедист оттолкнулся ногой и поехал к своей канаве. Автоинспектор, продолжая держаться за руль, круто обернулся, то ли стараясь разглядеть, есть ли у него номер под седлом, то ли ему тоже было интересно, как этот упрямец доезжает до самого спуска. Тут Богатый Портной подошел к автоинспектору. Ковыряя спичкой в зубах, он тоже посмотрел вслед велосипедисту каким-то пустующим взглядом.
Когда тот скрылся, Богатый Портной, продолжая ковырять спичкой в зубах, посмотрел на автоинспектора своим пустующим взглядом. Было похоже, что этим ковырянием он напоминает кунаку о долгом обеде.
— Имеет право, — сказал автоинспектор, взглянув на Богатого Портного. Казалось, он смутно угадывает намек и сам изумляется своей догадке.
— Нет, если детям не вредно, пожалуйста, — холодно повторил Богатый Портной, продолжая задумчиво ковыряться в зубах. Возможно, теперь это означало, что хотя долгие обеды в его доме не отменяются, но список приглашенных лиц подвергнется жестокому пересмотру.
Автоинспектор дал газ и уехал. На обратном пути Алихан рассказывал, как этот велосипедист здесь появился. Оказывается, он живет над нашей речушкой у самого выезда, на параллельной улице. Там почти такой же мост и почти такой же спуск. После бурных дождей возле его дома случился оползень, и выход на шоссе был разрушен. Вот он и избрал этот путь на работу через нашу улицу.
— Хорошо, — перебил его Богатый Портной, — а мой дармоед что говорит?
— Он говорит, — ответил Алихан миролюбиво, — им про оползень все известно, и они его починят.
Рядом с высоким сутуловатым Алиханом, опрятно сдерживающим торжество, маленький Богатый Портной шел, слегка прихрамывая. Так, прихрамывая, бывало, покидали поле наши футболисты после очередного проигрыша.
— А зачем он до самого края доезжал? — кивнул Богатый Портной на речушку.
— Это, говорит, мое дело, имею полное право, потому что рабочий кожзавода.
— А, — сказал Богатый Портной, догадываясь, — что хотят, то и делают.
— Да, — сказал Алихан, — хозяин...
Богатый Портной поднялся к себе, а Алихан еще немного постоял у калитки, следя за собой, чтобы не дать прорваться ликованию. И вдруг Богатый Портной появился на балконе.
— Алихан, — склонился он над перилами.
— Что? — живо откликнулся Алихан. Наверное, он решил, что Богатый Портной зовет его поиграть в нарды.
— Все же коровину голову он на бойне взял, — сказал Богатый Портной.
— При чем?.. — вздрогнул Алихан от неожиданности.
— При том, что кожзавод находится рядом с бойней, Алихан, — сказал Богатый Портной и быстро покинул балкон, так что Алихан только и успел поднять свои круглые брови над круглыми глазами.
Кожзавод был и в самом деле расположен рядом с бойней (он и сейчас там), и, вероятней всего, этот парень там и купил коровью голову. Сказав, где работает этот парень, Алихан в сущности сделал слабый ход, которым воспользовался Богатый Портной.
Не знаю, как в других краях, но у нас автоинспектор слов на ветер не бросает. Через неделю упрямый велосипедист перестал появляться на нашей улице. Видно, дорогу и в самом деле привели в порядок.
Возгласами: «Едет! Едет!» — нашим ребятам пару раз удалось заставить Богатого Портного выбежать на балкон, но потом рефлекс этот быстро отработался, да и сам Богатый Портной вскоре переехал на свой участок и больше в нашем доме на моей памяти не появлялся.
Тетушка моя время от времени, примерно раз или два в год, ходила в гости к Богатому Портному. Каждый раз она оттуда приносила удивительные новости. Больше всего поразило ее воображение, что Богатый Портной отвел воду от речушки на свой участок, где вырыл небольшой бассейн.
— В бассейне утки плавают, в беседке скамейка стоит, — сокрушенно рассказывала она каждый раз, возвращаясь оттуда.
— Ну и что? — сказал мой старший брат, когда она впервые об этом заговорила. — В беседке всегда скамейка стоит.
— Дурачки вы мои, дурачки, — печально покачала тетушка головой, как бы стараясь внушить, что дело не в самой беседке, а в том, что она наглядное звено в гармоничной системе, созданной руками Богатого Портного.
В конце концов, эта ее фраза превратилась для нас в символ глуповатой благопристойности и вообще всякой липы.
— В бассейне утки плавают, — говорили мы, и сразу же становилось ясно, что это за кинофильм, что это за книжка или что это за обещания.
— Смейтесь, дурачки, — печально отзывалась тетушка, хотя сама была человеком удивительно легкомысленным и в то же время очень впечатлительным. Как человек легкомысленный, она забывала, что сама далека от идеалов Богатого Портного, но, как человек впечатлительный, она, побывав у него на участке, воспламенялась красивым результатом его идей, стараясь и нас воспламенить своими восторгами.
***
На этом я временно прерываю жизнеописание Богатого Портного с тем, чтобы рассказать несколько случаев из более бурной и потому менее благочестивой жизни хироманта.
Во время войны, когда начались бомбежки нашего города, в сущности, бомбили всего два раза, пещера хироманта была превращена в бомбоубежище. К этому времени на горе поблизости от пещеры понастроили десятка два домов, в результате здесь образовался небольшой пригородный поселок. К владельцам этих домов подселялись беженцы, так что людей хватало.
Вторая сталактитовая пещера была расположена повыше, но карабкаться туда было далековато. К тому же она была не слишком удобна, потому что коридор ее метров через десять от входа круто опускался вниз, и впопыхах там легко можно было сорваться и проломить голову без всякой бомбы.
В первое время, говорят, хиромант именно туда и гнал всех, кто пытался укрыться в его пещере, но потом почему-то легко примирился с этим, и когда после тревоги люди расходились по домам, он им говорил:
— Чуть что, бегите сюда, не стесняйтесь...
Говорят, особенно в первое время туда набивалось черт-те сколько людей. К тому же они по неопытности тащили с собой все, что могли унести из дому, а унести они пытались все. Так что дети хироманта, пользуясь светомаскировкой, а точнее, полным отсутствием света, паникой, которую нагонял ослик, загнанный сюда же и шарахающийся после каждого залпа зенитки,— одним словом, пользуясь всей этой вавилонской бестолковщиной, дети хироманта ползали по перепуганным людям и при этом нередко вползали в их узлы, чемоданы и даже карманы, говорят.
Говорят, один беженец, выйдя из пещеры после тревоги с основательно полегчавшим чемоданом, — уж не знаю, что там лежало? — воскликнул:
— Лучше б я под бомбежку попал!
Позже люди перестали таскать свой скарб, но все-таки бегать туда продолжали, потому что немецкие самолеты всегда встречались таким дружным зенитным огнем, что люди не без основания полагали, что летчики с перепугу как раз и угодят бомбой на эту окраину.
Вскоре женщины поселка стали замечать, что их мужчины, как только объявляется тревога, обгоняя друг друга и оставляя далеко позади свои семейства, первыми вбегают в пещеру.
Потом стали замечать, что после отбоя они, эти храбрецы, выходят из пещеры какими-то веселыми, как бы слегка обалдевшими от страха или еще чего-то там.
Но тут возникшие было подозрения рассеял один эвакуированный интеллигент, который, тоже весьма бодро и тоже обгоняя свое семейство, бегал в пещеру. Он объяснил, что такое состояние некоторого вынужденного веселья после пребывания в пещере вызывается так называемым озонным опьянением. Почему это озонное или сезонное, как его перекрестили, опьянение действует только на мужчин, он не стал объяснять.
Позже, когда некоторые мужчины и после отбоя старались задержаться в пещере, яростно доказывая, что немецкие самолеты могут вернуться, а другие стали туда бегать и без всякой тревоги, средь бела дня, первоначальные подозрения снова всплыли и даже полностью оправдались.
Короче, выяснилось, что хиромант во время тревоги, пользуясь темнотой и вообще бомбофобией, довольно простительной для военного времени, спаивает остатки, и без того довольно жалкие, поселковых мужчин. Учтем, что лучшие из них в это время были там, где положено быть лучшим, — на фронте.
К этому времени хиромант приспособился гнать самогон из подножного ассорти, куда входили: бузина, крапива, икала, кислицы и все, что можно было натрусить в окрестных садах. Самогонный аппарат стоял в глубине пещеры и в сезон работал почти круглосуточно, как маленький военный завод.
Разумеется, плату за это удовольствие он повышал соответственно катастрофичности момента, может быть, даже с учетом своевременной доставки, хотя доставлять было неоткуда, ибо запасы хранились тут же, в одном из естественных тайников пещеры.
Но главное, что хитрец, поднося своим испуганным клиентам кружку с самогоном, тут же давал на закуску лавровый листик, благо одичавших лавровых деревьев на этой горе росло немало. А лавровый лист, как известно, отбивает всякие низменные сивушные запахи, оставляя один свой возвышенный древнегреческий запах. Так что мужчины этого поселка выходили из пещеры, увенчанные хоть и не лавровым венком, но все же лавровым запахом. В этом полублаженном состоянии они вполне безнаказанно ходили по нашему пригородному Олимпу, может быть, только тем и отличаясь от обитателей того древнего Олимпа, что походке их недоставало некоторой величавой твердости.
В конце концов, как и все хитрецы, хиромант погорел на своей хитрости. Одна женщина во время очередного пребывания в бомбоубежище, видимо решив в темноте следить за своим мужем, выхватила кружку из его руки, которую подсунул ему хиромант. Вернее, случилось так, что кружку-то он сумел сунуть ее злополучному мужу, а лавровый листик подал ей по ошибке.
Действовал он все же в темноте, и нельзя сказать, что движения его отличались безукоризненной точностью, ибо себя во время работы он, конечно, тоже не обносил, хотя сам лавровым листом и не закусывал. Не исключено, что сказался его долголетний рефлекс хироманта и он, забывшись, потянулся к женской ладони. Одним словом, как и всякий человек, хиромант мог ошибиться, и я, нисколько не пытаясь его оправдать, просто хочу понять, как это случилось.
Стало быть, женщина догадалась, в чем дело, и, продолжая держать в одной руке этот лавровый лист, другой вырвала кружку из рук своего мужа. Балбес, вместо того чтобы сразу выпить, медлил, все еще дожидаясь лаврового листа, словно находился не в пещере во время тревоги, а где-нибудь в довоенной закусочной.
Вырвав кружку, женщина молча плеснула ее на бороду хироманта, может быть слегка светящуюся в темноте, потому что, по уверению очевидцев, хиромант не сразу ей ответил, а сначала (вечно у нас преувеличивают!) сунул бороду в рот и стал ее обсасывать.
Плеснув из кружки, женщина эта, говорят, обернулась к мужу и, тыча ему в лицо лавровый лист, сказала с неслыханным ехидством:
— Жуй, детка, жуй!
Возмущенный муж попытался ей объяснить, что он ничего жевать не собирается, что он только попросил напиться и хиромант ему принес воды, а теперь он не понимает, что здесь происходит.
Но тут, говорят, хиромант дососал свою бороду и стал выгонять ее из пещеры. Та с криком, обращаясь к другим женщинам, начала разоблачать хироманта, одновременно не давая себя вытолкнуть из пещеры, и в этой локальной части своей борьбы была решительно поддержана собственным мужем.
— Ругать ругай, а гнать не имеешь права, — говорил он хироманту, слегка придерживая жену.
Но тут вмешались остальные женщины, и в пещере под гром зениток разразился бедлам, который еще мог притихнуть вместе с зенитками или даже раньше, да беда в том, что в самый разгар его один из волчат хироманта подполз к этой женщине и сунул ей за пазуху летучую мышь.
Тут она издала вопль такой силы — женщина, разумеется, а не летучая мышь, — что некоторые окрестные жители, те, что не пользовались пещерой, решили, что в пещере обвалился свод, и, радуясь за себя, скорбели за несчастных. Другие решили, что семерка рыжеголовых набросилась на одну из женщин с какой-то неясной, но, во всяком случае, нехорошей целью.
Говорят, вопль этот был услышан и в доме Богатого Портного, который к этому времени переселился на свой участок, расположенный под горой.
— Когда Лоткин свою жену резал, и то она так не кричала, — говорил он впоследствии про этот вопль, хотя, как было известно на нашей улице, жена Лоткина вообще не кричала в ту трагическую ночь. Но тут об этом не знали, и поправить его было некому. Впрочем, и на нашей улице его никто не поправлял, кроме бедняги Алихана. А что он мог один?
И вот эта женщина с воплем выбежала из пещеры и, продолжая вопить, словно за пазухой у нее лежал кусок горящей пакли, бежала по склону в сторону своего дома.
Говорят, когда ее поймали и вытащили из-за пазухи летучую мышь, та была мертва. Говорят, они, эти летучие мыши, далеко не всякие звуки выдерживают. Вроде бы у них аппарат восприятия звуков до того нежный, что они умирают, когда в воздухе появляются душераздирающие вибрации. Не удивительно, что у некоторых людей тоже наблюдается излишняя изнеженность слухового аппарата.
***
Однажды я сам был свидетелем такой картины. В кабинет учреждения, где работал один мой знакомый, любимец муз, приоткрылась дверь, всунулась голова начальника и выбросила из себя довольно длинную струю не слишком печатных выражений. И вдруг на глазах у нас, посторонних людей, как только струя эта коснулась чуткого уха сотрудника, он стал оседать на своем стуле. Голова его красиво поникла, а глаза прикрылись веками. В сущности, он потерял сознание в самом начале струи, так что основная часть ее вылилась даром, он ее уже не воспринимал, если не считать нас, посторонних посетителей, которых она, струя эта, обрызгала, можно сказать, профилактически.
Когда мы нашего друга привели в чувство, он улыбнулся слабой улыбкой и прошептал, показывая на ухо:
— Не могу привыкнуть...
А ведь на вид детина был дай Бог. Но слух не приспособлен. Вернее, приспособлен для музыки высших сфер, а для матовой ситуации не приспособлен.
Кстати, нельзя сказать, что профком учреждения, о котором идет речь, прошел мимо этого случая. На очередном собрании начальнику сделали серьезное внушение за то, что он непотребными словами общался с подчиненными при посторонних.
Начальник принялся оправдываться, указывая на то, что он посторонних не заметил, что он только приоткрыл дверь, тем самым прикрыв посторонних, что, кстати, с печальным благородством подтвердил и пострадавший.
Но тут начальнику вполне резонно заметили, что в том-то и беда, что сначала надо было войти, поздороваться, а потом уже дело говорить. Ну хорошо, сказали ему, на этот раз посторонние оказались своими, но бывает, что в кабинете могут оказаться чужие посторонние, скажем, иностранцы в порядке культурного обмена... Тогда что? Накладочка?!
Но тут начальник попытался оправдаться, говоря, что накладочка никак не может получиться, потому что если иностранец и забредет в учреждение в порядке культурного обмена, то он прямо попадает к нему в кабинет, и он уже сам его водит по другим местам и рассказывает что-нибудь общедоступное, а про дело не говорит. А если ненароком и сорвется с губ какое-нибудь словцо, то переводчик на то и переводчик, чтобы придать ему легкое иностранное звучание.
Не знаю, чем у них там закончилось собрание, но знаю одно, что когда я в следующий раз посетил это учреждение, там двери во всех кабинетах были перевешены в обратном порядке. Может, это случайность, как и то, что теперь, приоткрывая дверь, можно было одним взглядом охватить внутреннюю жизнь кабинета и уже в зависимости от этого прямо с порога излагать свои накипевшие мысли.
***
Одним словом, после этого скандала, я имею в виду пещеру, женщины поселка во главе с пострадавшей пошли жаловаться в райсовет, желая выселить хироманта из пещеры. Самое удивительное, что муж ее, приняв пристойный вид, вместе с ними отправился туда же.
Там он рассказал о том, как постепенно хиромант втягивал его в свои алкогольные сети, как он сначала не хотел пить, но тот его коварно уверял, что самогон снимает страх перед бомбами, что сперва так оно и было, а потом он уже привык.
Ко всему этому он еще приплел, что жена его отчасти обесчещена прикосновением летучей мыши и что теперь, как только он хочет ее обнять, он вспоминает летучую мышь, и у него объятия нередко повисают в воздухе.
Тут, говорят, товарищ из райсовета махнул на него рукой и стал слушать остальных делегатов. Жалобы в основном сводились к тому, что хиромант со своими детьми мешает жителям поселка культурно переждать бомбежку. Как водится в таких случаях, вспомнили все, что было и не было.
Так, многие говорили, что у них в поселке исчезают куры и что, скорее всего, это дело рук хироманта.
Хиромант не отрицал, что он давал иногда кое-кому пару глотков самогона. Но кому? Только тем, кто своим трусливым поведением способствовал ложным слухам. Что касается кур, то тут он сказал, что никогда так низко не опускался, чтобы воровать кур, и дал честное слово дворянина, что этого никогда не было. На это честное слово дворянина товарищ из райсовета не обратил ни малейшего внимания, но обратил внимание на то, что нет доказательств.
В конце концов, учитывая большое количество детей хироманта и что жена его почти мать-героиня, товарищ из райсовета принял довольно гуманное решение.
По окончательному постановлению райсовета полагалось выселить хироманта с семьей из нижней сталактитовой пещеры, превратив ее в бомбоубежище, и вселить в верхнюю сталактитовую пещеру. При этом райсовет обязался кирпичной кладкой огородить крутой спуск к пещере ввиду многочисленности его необузданных детей и возможности несчастного случая.
— Скажи спасибо детям, — сказал ему товарищ из райсовета. — Советская власть даже из твоей рыжей команды сделает настоящих людей.
— Дай Бог, — смиренно согласился хиромант.
Таким образом, райсовет оставил хироманта с его семьей в нижней сталактитовой пещере впредь до кирпичной кладки в верхней. Решение это оказалось выгодным хироманту и ставило противников в довольно затруднительные условия, особенно мужчин, привыкших взбадриваться. Теперь, говорят, хиромант во время тревоги устраивался напротив той злополучной парочки и, звякая бутылкой, наливал себе в кружку сколько хотел, при этом долго разговаривал с напитком, дурашливо укоряя его за совращение нестойких мужчин. После этого он вливал его в свое клокочущее горло. Невезучий муж этой женщины, как и все другие мужчины, молча сносил эту изощренную пытку. Но жена его не выдерживала.
— Овца, — обращалась она в темноте к своему мужу, — скажи ему, что тебе противно смотреть!
— Мне противно смотреть, — повторял муж, не сводя зачарованного взгляда с темного силуэта совратителя.
В конце концов, через некоторое время часть жалобщиков дрогнула и пала к ногам хироманта, после чего он возобновил снабжение их бодрящим напитком. Другая часть под влиянием жен и собственной зависти к изменникам до того ожесточилась, что решила в верхней пещере поставить кирпичную кладку, не дожидаясь райсовета, за собственный счет. Неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы не грянул счастливый случай, который сделал хироманта недосягаемым для окружающих.
Как раз в один из этих дней в горах сравнительно недалеко от нашего города выбросились на парашютах из подбитого «юнкерса» два немецких летчика.
Кстати, жители нашего города долгие годы утверждали и, кажется, до сих пор утверждают, что самолет подбили именно наши зенитчики. При всем моем уважении к нашим старожилам должен сказать, что это маловероятно. Даже нам, тогдашним мальчишкам, было ясно, что самолет, упавший недалеко от города, хоть и в горах, никак не мог быть подбитым над городом, потому что самолеты эти всегда пролетали очень высоко. Так что подбили его, скорее всего, где-то над Батумом или над Гаграми в крайнем случае, но никак не над нашим городом.
Правда, в те времена слухи эти ввиду их полезного воздействия на жителей города не опровергались, хотя официально, скажем, через газету или радио, и не подтверждались никак.
Напав на след этих летчиков, бойцы истребительного батальона гнались за ними целую ночь и в конце концов до того их запутали, что они не нашли ничего лучшего, как после длительного бегства выбежать на нашу пригородную гору и укрыться в верхней пещере.
Правда, дело происходило ночью, а город был погашен ввиду всеобщей маскировки (вот что значит хорошая маскировка, а некоторые в те времена недооценивали ее), так что ночью летчики могли и не заметить, куда их загнали, а утром было поздно.
На рассвете к пещере подошли бойцы истребительного батальона, состоявшего из выбракованных, непригодных для армии абхазских крестьян со своим командиром, русским лейтенантом-фронтовиком.
Пытались было сунуться в пещеру — летчики стреляют. Лейтенант, дождавшись открытия городских учреждений, послал туда человека за переводчиком. Пришел переводчик с рупором, вроде тех, что употребляют физруки на общешкольных зарядках и на стадионе (уж не в нашей ли школе он его прихватил?!).
Говорят, этот рупор, может быть, потому, что на нем было несколько латок, сразу же не понравился бойцам истребительного батальона. Говорят, при виде этого рупора некоторые высказались, правда по-абхазски, что городские власти могли и поновей кричалку прислать по этому случаю.
Так или иначе, переводчик подошел к краю пещеры и, осторожно высунув рупор, прокричал в глубину, чтобы немцы сдавались по-хорошему, а то их возьмут по-плохому. Несколько раз он повторял свое предложение, но немцы ничего не отвечали.
Немцы молчали, но бойцы истребительного батальона, услышав звуки языка, никак не похожего ни на абхазский, ни на грузинский, ни на армянский, ни на турецкий, ни на греческий, ни даже на русский, стали хохотать, уверяя друг друга, что на такой тарабарщине двуногое существо говорить никак не может и не должно.
Бойцы истребительного батальона до того развеселились, что стали мешать переводчику, и лейтенант вынужден был на них прикрикнуть. Бойцы слегка притихли, но зато свои насмешки перенесли на самого переводчика и его трубу. Сначала они ему предлагали, чтобы он свою кричалку закинул немцам, а то им нечем ему отвечать, а себе притащил бы другую, если эта не единственная кричалка на весь город. Главное, говорили они ему, перекинуть ее через верхнюю площадку, а там она сама вниз покатится.
Толмач продолжал кричать немцам, стараясь не обращать внимание на насмешки. Немцы продолжали молчать, а бойцы истребительного батальона вовсе распалились, уверяя, что если он вкричится в одно место во-он того ослика, что пасется на склоне, то оттуда он найдет якобы больше отзвука, и притом понятного на всех языках.
То ли от волнения, то ли с отчаянья, стараясь доказать, что немцы все-таки будут ему отвечать, толмач, крича им в очередной раз, слишком сильно высунулся, правда за счет своего рупора, а не за счет своей головы.
И вдруг из пещеры раздался выстрел. Рупор выпал из рук переводчика, и сам он свалился, схватившись руками за рот. Бойцы истребительного батальона подскочили к нему, решив, что пуля, пробив рупор, рикошетом влетела ему в рот, потому что все видели, что хоть он и сильно высунулся, а все же не за счет головы, а за счет рупора.
Но, слава Богу, все обошлось. Не успели они подойти, как он вскочил на ноги и только попросил достать ему рупор, который выкатился на такое место, что его можно было еще раз прострелить из пещеры. Один из бойцов осторожно поддел его дулом вытянутой винтовки и вернул в безопасное пространство. Бойцы истребительного батальона убедились, что рупор был пробит насквозь. Каждый из них счел своим долгом всунуть палец в выходное отверстие и подивиться силе немецкой пули. Некоторые нюхали его, уверяя, что оно чем-то пахнет.
Переводчик окончательно пришел в себя и снова стал кричать в свой рупор, чтобы немцы сдавались по-хорошему, но на этот раз звук его голоса, наверное из-за дыр в рупоре, вырывался неубедительно, с какими-то позорными ответвлениями. Так что тут не только бойцы истребительного батальона стали хохотать, но и сам лейтенант не выдержал и сурово улыбнулся. К довершению всего ослик хироманта, что пасся тут же на склоне, неожиданно закричал своим тоскливым голосом, и получилось, что он-то как раз и отвечает на призыв переводчика, хотя, скорее всего, он кричал сам по себе, по своим надобностям.
Переводчику велели отдохнуть, и лейтенант стал советоваться, как быть дальше. Некоторые бойцы истребительного батальона предлагали взять пещеру приступом, кстати, пустив вперед этого ослика, что даром здесь пасется, чтобы немцы отвлекли на него свой огонь.
Другие предлагали, пока ветер дует с моря, развести у выхода из пещеры большой костер, и немцы, в конце концов задыхаясь от дыма, будут прыгать из пещеры прямо в огонь, откуда их останется только выкатывать, как печеные каштаны.
Лейтенант оба эти предложения отверг. Он полагал, что немцев могут убить во время штурма, тем более ему не хотелось брать в плен каких-то там обгорелых, подпорченных немцев.
— За целый год, — сказал он, — один самолет сбили, и я вам этих немцев не дам испортить.
— Как хочешь, — сказали бойцы истребительного батальона, — нам на этих немцах не пахать.
Они опять расположились на лужайке под пещерой и развели костер, замаскировав его к вечеру плащ-палаткой. Так они просидели до утра, вспоминая всякие деревенские истории. Временами кто-нибудь из них оглядывался на пещеру, приговаривая, что если уж немцы выскочат из нее, то никак не может случиться, чтобы хоть один из них этого не заметил.
— Такого и быть не может, — услышав эти слова, заключал один из остальных бойцов, окончательно успокаивая и без того спокойного товарища.
На следующее утро бойцы опять запросили лобовой атаки, ссылаясь на то, что немецкие летчики, по слухам, едят шоколад, и на нем они могут продержаться до самых холодов. Лейтенант заколебался.
Бойцы стали искать глазами ослика, которого они собирались пустить вперед, но его нигде на склоне не оказалось. Тогда кто-то вспомнил, что возле ослика все время сидел один из волчат хироманта, которого они прозвали немым, хотя он не был немым, а только молчал, как и весь выводок.
Лейтенант пошел договариваться с хиромантом насчет ослика и тут неожиданно получил от него встречное предложение. Лейтенанту оно показалось дельным, и он согласился.
Оказывается, пещера хироманта через один из коридоров узким лазом соединялась с верхней пещерой, о чем никто, кроме него, не знал. Вернее, и он не знал, да один из его волчат рассказал ему об этом. И именно тот, что все время торчал поблизости от бойцов истребительного батальона, — не то пас ослика, не то слушал, о чем они говорят, покамест бойцы не перестали на него обращать внимание, приняв его за глухонемого, не понимающего по-абхазски.
Оказывается, он давно обнаружил этот лаз и использовал его для своих надобностей. Он сознался, что лаз ведет в самую глубину верхней пещеры, где протекает подземный ручей.
План хироманта был прост и разумен: проникнуть в глубину верхней пещеры, перекрыть ручей, вернуться назад и ждать, пока вода поднимется до уровня верхней площадки и немцы всплывут вместе с ней. А если у них в голове еще что-нибудь кумекает, то они сдадутся гораздо раньше.
Чтобы избежать возможной провокации, лейтенант пустил на это дело самого хироманта, на что тот не очень охотно согласился, думая ограничиться подачей идеи. Но все же пошел.
Ждали его обратно около трех часов и уже было заподозрили, что он там стакнулся с немцами и, может быть, захочет вывести их через свою пещеру, так что лейтенант с двумя бойцами спустился в нижнюю пещеру и стерег выход из лаза, освещая его электрическим фонариком.
Говорят, когда хиромант выполз из дыры, весь измазанный мокрой глиной, лейтенант не стал его тормошить, а дал выйти из пещеры на свет божий. Хиромант постоял возле своей пещеры, утирая одной рукой мокрую бороду и сослепу поводя головой. Говорят, он так с минуту постоял, окруженный бойцами истребительного батальона и собственным многочисленным выводком во главе с тринадцатилетним рыжиком, который молча, как и все, дожидался отца, постругивая палочку сапожным ножом.
— Змееныш! — неожиданно закричал хиромант и, с безумным проворством подхватив полено, валявшееся у ног, ринулся за одним из своих волчат, а именно за тем, который рассказывал ему про лаз.
Тот молча побежал от отца, и теперь было видно, что и отец поводил головой, готовясь к прыжку, и рыжик хоть и не сдвинулся с места до того, как отец ринулся на него, но ждал этого и был готов.
Очевидцы говорили, что их никогда не охватывала такая жуть, как в эти минуты, когда хиромант бежал за сыном по лужайке, карабкался за ним по склону над пещерой, пытался его достать, когда тот пробегал мимо остальных рыжеголовых, молча, одними глазами следивших за происходящим.
Жуть эта подымалась, как они позже сообразили, даже не столько от вида разъяренного, измазанного глиной рыжебородого, с поленом в руке догоняющего сына, и даже не оттого, что оба они при этом молчали, и только слышалось, как с присвистом и клокотаньем дышит отец, а маленький покряхтывает и злобно оглядывается, ни на мгновенье не сдаваясь, а только стараясь соразмерить расстояние и сохранить силы. Она, эта жуть, исходила от остальных волчат, от этой молчаливой стаи, в которой одни жевали свою жвачку, а другие просто зыркали глазами, самый старший, так тот и вовсе, кажется, не смотрел, а только постругивал свою палочку и помалкивал, как и все.
И вдруг, когда отец пробегал мимо него (значит, все-таки следил!), он неожиданно бросился ему под ноги, и тот, перекувырнувшись через него, полетел на землю и выпустил из рук полено.
А этот встал как ни в чем не бывало и, даже не отряхнувшись, снова принялся за свою палочку и только подальше отпихнул ногой полено.
Как только хиромант рухнул, волчонок, что бежал от него, говорят, остановился и даже приблизился на несколько шагов, а именно те, которые успел пробежать по инерции, и, тяжело дыша, злобно продолжал смотреть на него, как бы предлагая продолжить всю эту игру, если у него хватит пороха. Хиромант в это время катался по лужайке, кусая траву и стараясь врыться головой в землю.
Тут лейтенант подбежал к нему и, опустившись на колени, стал нежно гладить его по спине, приговаривая:
— Чудак человек, сначала доложи, а потом наказывай!
Как выяснилось потом, ярость хироманта была вызвана тем, что он у ручья на дне верхней пещеры обнаружил следы от костра и целый кощеев холм куриных костей.
Успокоившись, хиромант доложил, что хорошо заделал выход подземного ручья и теперь немцам капут, только надо подождать, чтобы вода поднялась.
Вода подымалась медленно, если она вообще подымалась, так что ждать пришлось до следующего утра. А в первые часы было много сомнений насчет того, что хиромант сумел как следует заделать выход подземного ручья. К тому же вода могла просочиться и в других местах.
Ночью один из бойцов истребительного батальона, сидевший вместе с другими у замаскированного плащ-палаткой костра, вдруг догадался, что можно проверить, подымается ли вода в пещере, забрасывая туда камни. Бойцы обрадовались этому открытию и стали собирать камни и забрасывать их в пещеру. В этом деле, говорят, выбракованные крестьяне оказались ловчее самого лейтенанта. Кидать надо было так, чтобы камень, не задевая свода пещеры, имел достаточно высокую траекторию, чтобы, минуя площадку, проваливаться за обрыв.
И вот, говорят, туча этих самых камней чуть ли не всю ночь летела в пещеру, и после падения некоторых из них иногда казалось, что слышится чмокающий звук, а иногда ничего не казалось. Один раз они услышали не то ругань, не то стон одного из немцев, в которого, видно, попал камень. Тут бойцы истребительного батальона дружно зааплодировали, но, разумеется, не тому, что в немца попал камень, они в него и не целились, а тому, что немцы или хотя бы один из них жив и подает голос.
Неизвестно, чем бы кончилось это швырянье камнями, может, они дошвырялись бы до того, что просто захоронили бы немцев в этих камнях или даже искусственно подняли бы уровень воды в запруженном ручье, если бы среди ночи не появился взволнованный хиромант.
Он сказал, что из лаза полилась вода, что она залила огонь под самогонным аппаратом и что ему едва удалось предотвратить взрыв котла. Но теперь все в порядке, добавил он, так что вода в пещере будет подыматься еще быстрей, уверил он лейтенанта.
— Я ему заткнул глотку, — уверил он лейтенанта напоследок.
— И успел промочить свою, — ответил ему лейтенант с упреком и послал бойцов проверить состояние лаза.
Все оказалось правдой, а на рассвете наконец из пещеры полилась вода. Сначала она стекала вниз по камням, как первач по соломинке, а потом пошла ручьем. Первая струя была встречена громом аплодисментов и свадебной песней бойцов истребительного батальона.
Потом один из бойцов отделился от остальных и подошел к ручью. Он снял винтовку, осторожно прислонил ее к одному из больших камней, между которыми пробегал новоявленный ручей, снял кружку с пояса, ополоснул ее, набрал воды, сказав несколько непонятных слов, стал медленно пить.
Лейтенант очень удивился всей этой процедуре, и когда спросил, что все это означает, один из бойцов истребительного батальона, лучше других говоривший по-русски, улыбаясь его наивности, объяснил, что это он пьет кровь побежденного врага, что раз уж он выпил эту кровь, немцам ничего не остается, как сложить оружие.
Лейтенант махнул рукой и послал человека в учреждение за переводчиком. Боец истребительного батальона все еще дегустировал символическую кровь врага, а остальные внимательно следили за ним, когда неизвестно откуда выползший один из рыжих волчат стащил его винтовку и поволок ее вверх по склону.
Он уже метров пятьдесят прокарабкался, когда, неспешно допив кровь врага, боец истребительного батальона стал озираться в поисках своего оружия.
— Сдается мне, — сказал ему один из бойцов, кивая на гору, — что этот глухой с твоей винтовкой карабкается...
— Хайт! Его глухую мать! — вскричал оскорбленный дегустатор крови и с быстротой оленя помчался вверх. Он бежал, сверкая своей кружкой, которую то ли по забывчивости, то ли решив, что в этих гиблых местах вообще ничего нельзя оставлять без присмотра, захватил с собой. Бойцы истребительного батальона заулюлюкали, засвистели, и было непонятно, своего товарища они взбадривают или рыжика. Скорее всего, и того и другого. Бегать от абхазца по горам — бесполезное дело, тем более рыжик карабкался под тяжестью винтовки, а боец был налегке, если не считать его кружки.
Расстояние быстро сокращалось, но, видно, гнев бойца переливался через край, потому что он метров за десять от рыжика не удержался и швырнул в него кружкой. Кружка просверкнула мимо, но рыжик выпустил добычу и уже дальше помчался налегке.
Боец, добравшись до винтовки, не стал его преследовать, а помчался за своей кружкой, которая, звякая и подпрыгивая по каменистому склону, покатилась в обратном направлении, что и спасло рыжика от хорошей взбучки. Кстати, кружку свою этот злосчастный боец так и не смог поймать, хоть и мчался за ней до самой полянки. Говорят, на каждый отскок ее от крутого каменистого склона он, продолжая бежать, отвечал угрозами обесчестить эти самые камни, не смущаясь ни их суровыми формами, ни их почтенным геологическим возрастом. Надо сказать, что по части подобных выражений абхазский язык, пожалуй, побогаче русского (тоже небедного), хотя и значительно уступает турецкому.
Короче говоря, кружка эта, может ошалевшая от своего символического употребления, даже пыталась перепрыгнуть полянку, на которой стояли остальные бойцы, но тут один из них изловчился и сбил ее своей шапкой.
Хозяин, наконец добравшись до нее, снова принялся пить воду, но уже не придавая этому никакого символического значения, а главное, не выпуская из левой руки спасенную винтовку. Говорят, он выпил несколько кружек и, каждый раз зачерпнув из ручья, внимательно следил, не протекает ли, бормоча при этом:
— Моя бедная... цинковая... чуть не загробил, новехонькую...
Напившись, он камнем выправил ее помятые бока и, окончательно успокоившись, привязал ее к своему поясу. А волчонок, что пытался похитить ружье, уселся на самой вершине горы и сидел там до тех пор, сияя рыжей головенкой, пока бойцы вместе с немцами не покинули горы.
Вновь появился толмач со своей трубой, теперь уже аккуратно залатанной новыми железными латками, что почему-то язвительно отметили бойцы истребительного батальона. К тому же они стали подшучивать над своим товарищем, заметив его нежную привязанность к своей кружке, говоря, что ему было нечего так бояться за свою кружку, что в случае чего толмач привел бы ее в порядок, вон как свою трубу залатал.
— Так я ему и доверил ее, — отвечал боец, пошлепывая по кружке ладонью, — я с нею три года пропастушил, а тут пришел в город — и на тебе.
Лейтенант снова стал торопить толмача, он боялся, как бы немцы не утонули. Толмач снова стал кричать в свою трубу, чтобы немцы сдавались по-хорошему.
И тут из пещеры наконец раздался хриплый голос. Лейтенант и все бойцы очень обрадовались этому голосу.
Лейтенант радостно приказал немцам, чтобы они плыли к выходу. Толмач передал приказ, и из пещеры снова раздался голос.
— Он говорит, что они не умеют плавать, — не вполне уверенно перевел толмач.
— Тогда как же они держатся? — удивился лейтенант. Толмач перевел его удивление. Теперь немцы охотно переговаривались и даже продолжали что-то говорить, пока толмач оборачивался к лейтенанту.
— Он говорит, что они держатся на пробковых поясах, — перевел толмач, — потому что летают из Румынии.
— Ах, из Румынии? — удивился лейтенант и приказал, чтобы немцы отдавались течению, что оно их как раз и вытянет к выходу. Но тут немец, тот, что переговаривался, прохрипел, что они отдаваться течению не намерены, что они, наоборот, держатся за сталактит и будут держаться, хотя у них вышли из строя электрические обогреватели.
— А почему второй молчит? — вдруг спросил лейтенант. По мнению некоторых позднейших комментаторов, этот вопрос был связан с тем, что он хотел сыграть на возможных противоречиях между осажденными немцами. Может, так оно и было, а может, он просто хотел узнать, жив ли второй немец.
— Он говорит, что его товарищ потерял голос, — перевел толмач.
— Скажи им, чтоб скорее сдавались, — заторопил его лейтенант, — а то и этот совсем осипнет... На черта нам сдались безголосые «языки»...
Толмач приник к своей трубе, но тут, говорят, лейтенант его остановил и сказал, чтобы про безголосые «языки» он немцам не переводил.
— Что я, первый раз, что ли?! — ответил толмач обиженно, хотя обижаться было не на что, тем более что он и в самом деле первый раз работал с немцами. Об этом в городе знали точно, а пленных вообще тогда еще не было в наших краях.
На этот раз он долго переговаривался с немцами и даже спорил с тем из них, кто все еще мог отвечать, а лейтенант все порывался узнать, что они говорят, но толмач отмахивался от него и никак не мог оторваться от своей залатанной трубы.
Возможно, он не все понимал, учитывая, что немец довольно сильно хрипел и у него не было даже такого латаного-перелатаного рупора, если не считать самой пещеры, которая до того гулко резонировала и гремела немецким эхом, что в иные мгновения казалось: уж не расплодились ли они там в нашей животворной воде?
Одним словом, он до того долго с ними переговаривался, что, когда перевел смысл разговора, бойцы истребительного батальона остались недовольны, ворча, что такой долгий разговор можно было перевести и подлинней. Как-то он им не пришелся по вкусу, этот толмач, вот они и придирались к нему.
— Он говорит, — перевел толмач, — что немецкие летчики могут продержаться в черноморской воде тридцать часов и что хотя вода в пещере гораздо холодней, они будут держаться оставшиеся два часа с оружием в руках.
— Вот суки! — восхитился лейтенант психикой немцев, еще не сломленной Сталинградом, и велел ждать.
К этому времени весь поселок и все живущие под горой собрались у пещеры, и, конечно, не обошлось без Богатого Портного. С начала осады немцев он каждый день, прихрамывая, наведывался сюда. Уже в первый день он пришел сюда с ковриком и с нардами. За это время он много чего здесь наговорил, но в памяти очевидцев остались два его изречения.
— Тот человек счастливый, — сказал он, расставляя фишки для новой партии в нарды и внезапно останавливаясь, словно прислушиваясь к грохоту далекой канонады, — тот человек счастливый, что сейчас на фронте в самом пекле находится...
В этом его не слишком ясном изречении было понятно только одно: что ему хочется на фронт, но, увы, больная нога не пускает. После своего ишиаса, полученного в часы ночных бдений в саду, он и раньше прихрамывал с оттенком участника гражданской войны. Теперь он вовсе захромал уже без всяких оттенков, жалуясь при случае, что у него в колене нашли гнилую воду.
В этот день он предложил лейтенанту прорыть гору над пещерой и выйти немцам в тыл. (Но это еще не второе его изречение, тем более что лейтенант его не послушался.)
— Вот и рой, — холодно ответил ему лейтенант. Ровно через два часа лейтенант, взяв с собой троих добровольцев, отправился в пещеру. Он разъяснил бойцам, что враг хотя измотан, но продолжает оставаться коварным, поэтому надо быть начеку, но стрелять только в самом крайнем случае.
Сзади на некотором расстоянии шел переводчик, слегка прикрываясь рупором, хотя уже было достаточно ясно, что немецкая пуля его пробивает. Один из бойцов, проявив военную хитрость, привязал электрический фонарик к дулу своей винтовки и, оттянув ее подальше от себя и своих товарищей, освещал дорогу, чтобы запугать немцев, если они проявят вероломство. Но немцы стрелять не стали.
Трое бойцов вместе с лейтенантом и догнавшим их переводчиком, хлюпая по воде, подошли к краю огромного озера. В середине озера торчала вершина сталактита, которую, стараясь пистолеты держать повыше, в обнимку сжимали летчики. Лейтенант включил и свой фонарик, так что оба немца теперь беспомощно помаргивали белесыми глазами в прожекторном перекрещении двух световых лучей.
Толмач опять попытался говорить в рупор, но тут уж лейтенант не выдержал и, выхватив у него трубу, бросил ее в воду, и сразу же всем, может быть даже включая немцев, стало ясно, до чего эта труба надоела лейтенанту и какую железную выдержку проявил он, смиряясь с ее необходимостью.
— Говори так, — сказал он ему, кивая на сравнительно небольшое расстояние от сталактита до берега.
— Хорошо, — ответил толмач, тоже проявив немалую выдержку, — но за то, что ты это сделал при немцах, ответишь.
— А немцы и не видели, — вступился один из бойцов за своего лейтенанта, имея в виду, что немцы их фонарями не освещали, а, наоборот, они немцев освещали.
— Там выяснят, — ответил толмач мимоходом, продолжая слушать немцев, отчего его угроза прозвучала еще убедительней.
Боец хотел было войти в воду и достать рупор, тем более что упал он недалеко, но тут опять произошло замешательство, потому что немцы к берегу плыть отказались. Они сказали (говорил-то все еще один из них), что сами в плен не сдаются, но, если их возьмут в плен, они не отказываются. Тогда лейтенант приказал бросить сталактит, потому что будет рассматривать это как сопротивление. Тут немцы, говорят, переглянулись и в самом деле бросили сталактит, после чего они еще некоторое время с дурацким выражением нейтралитета покружились на поверхности озера, и, когда приблизились на расстояние вытянутой винтовки, их окончательно подогнали к берегу.
Поразительно, что, выходя из воды, один из них успел вытащить рупор и подать его именно толмачу, из чего неминуемо следовало, что столкновение лейтенанта с переводчиком не осталось незамеченным. Беря рупор, толмач кивнул головой, как бы злорадно намекая на это обстоятельство.
Вытащив из оцепеневших пальцев пленных пистолеты, их выволокли на солнце. К великому удивлению всех людей, надо полагать, всех, кроме хироманта и его выводка, мокрые немцы оказались облепленными каким-то пухом и перьями, словно это были не подбитые летчики, а Дедал и Икар после неудачного полета.
Немного отдышавшись, тот из немцев, у которого оставался кое-какой голосишко, что-то сказал переводчику, показывая на голову своего онемевшего товарища, из чего жители поселка сделали чересчур поспешный вывод, что второй немец сошел с ума.
— Притворяется! — крикнул Богатый Портной, но тут переводчик доложил, что немец намекает на камни, которые ночью бросали в пещеру.
— Он говорит, что будет жаловаться на нечестное ведение боя, — перевел толмач, продолжая мстить за свой рупор. Но лейтенант не растерялся.
— А кто мирный договор нарушил? — спросил он в упор.
На это немец не нашелся что ответить и неожиданно принялся чихать, а через секунду к нему присоединился и второй пленный. Тут бойцы да и сам лейтенант обрадовались, что у второго немца хоть таким образом прорезался голос. И тогда все поняли, что немец онемел не от камня, а от простуды, в чем сам же виноват. Тут один из бойцов истребительного батальона привел, имея в виду этого невезучего немца, абхазскую пословицу, гласящую, что, мол, упавшего с дерева укусила змея.
Бойцы истребительного батальона посмеялись удачно приведенной пословице, и тогда тот, кто ее вовремя вспомнил, попросил переводчика перевести ее на немецкий язык для пострадавшего немца.
Говорят, переводчик довольно долго переводил эту пословицу на немецкий язык, а немец продолжал чихать, глядя на него непонимающими глазами, может быть решив, что уже начался допрос.
Пока переводчик, поднатужившись, старался довести до сознания пленного немца смысл пословицы, указывая для наглядности на его голову, бойцы истребительного батальона рассказывали окружающим представителям других наций, как сжат и точен абхазский язык, если переводчику так долго приходится переводить эту пословицу. Представители других наций сдержанно соглашались, намекая, что и в их языках тоже есть немало хорошего.
Перевод пословицы, видно, как-то не дошел до сознания немцев, потому что тот, что пострадал от камня, неожиданно энергично замотал головой и что-то просипел, как бы в корне не соглашаясь с пословицей, что выглядело не вполне прилично со стороны пленного. Но тут второй немец разъяснил, что его товарищ, когда парашют зацепился за дерево, не упал с него, а спрыгнул, потому что там было невысоко.
Но тут вмешался лейтенант и велел оставить немцев в покое, оберегая их умственные усилия для более важных дел. Но немцев не оставили в покое, потому что к ним протиснулся Богатый Портной и сказал, обращаясь к переводчику:
— Переведи слова Александра Невского: «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет!»
Это было второе его изречение, надолго запомнившееся местным жителям.
— Для чего? — спросил переводчик и без того утомленный предыдущей пословицей.
— Интересно, что они скажут, — сказал Богатый Портной.
Но тут лейтенант опять отстранил Богатого Портного, да и непохоже было, чтобы немцы могли что-нибудь отвечать, потому что они как принялись чихать, так и продолжали, почти не переставая.
И потом, когда их вели к машине, и в самой машине, они продолжали чихать, и даже когда приехали в НКВД, никак не унимались. Да и позже, в кабинете самого полковника, рассказывают жители нашего города, немцы продолжали почихивать, хотя и не столь безудержно, но и без особых признаков затухания.
А все тот же толмач, рассказывают старожилы, хотя непонятно, откуда они все это видели или тем более слышали, стоял рядом с ними весьма удрученный, но уже не тем, что нельзя пользоваться рупором, а тем, что вот полковник все ждет, постукивая пальцами по столу, а ему переводить нечего, кроме этого чихания.
Но тут, говорят, полковник перестал постукивать пальцами, а надо полагать, потеряв терпение, двинул всем кулаком по столу и сказал несколько русских слов, которые в переводе могли прозвучать как строгое напоминание о том, что они находятся не в поликлинике, а совсем в другом месте. И тут, говорят всезнающие старожилы, немцы перестали чихать и притихли, перед тем как заговорить.
В тот же день в пещеру был вызван водолаз, потому что вода начала заливать жителей, живущих у подножия горы, и он открыл завал, устроенный хиромантом, спустил воду. Вот так хироманта за его полезную находчивость оставили в нижней сталактитовой пещере, хотя сам лаз у выхода в верхнюю сталактитовую пещеру на всякий случай заделали железной решеткой.
Подбитый немецкий самолет, это был «юнкерс», выволокли на буйволах из ущелья, где он застрял, привезли в город и поставили в парке, сохранив его ужасный вид для наглядного примера того, что ждет всю германскую военную машину, а не только ее отдельные самолеты. Там он стоял в неприглядном виде до самого конца войны и даже дольше.
Должен сказать, что события этого бурного года я отчасти восстанавливаю со слов очевидцев, так что кое-где возможны некоторые преувеличения, впрочем незначительные.
Дело в том, что, как только появилась опасность попасть под бомбежку, мама решила тактически более правильным (экономически тоже) переехать в деревню, что мы и сделали.
Когда мы вернулись из деревни, события на фронте изменились в нашу пользу, и в городе было полным-полно пленных немцев. Они работали в основном на строительстве разрушенных бомбежкой домов, что было вполне справедливо и поучительно. Кстати, заодно они восстановили и привели в порядок наш театр, сгоревший из-за халатности неизвестного лица.
Среди пленных находились и двое этих летчиков, и, когда колонна проходила по улице, они обычно стояли рядом. С бодрыми песнями, лихо щелкая деревянными босоножками, они проходили по улицам города.
Я часто замечал, когда они проходили мимо парка, каким странным взглядом эти двое смотрели на свой самолет. Но если они даже не смотрели туда, наши старожилы, которым случалось стоять поблизости, рукой показывали им на парк в том смысле, что во-он ваш самолет еще стоит, на что эти двое, а иногда и остальные пленные вежливо кивали головой, давая знать, что этот факт им известен.
Во взгляде старожилов на этих двух летчиков, как, впрочем, и во взгляде летчиков на свой бывший самолет, было много скрытого юмора. Старожилы своими взглядами и кивками в сторону летчиков как бы напоминали им, что они, эти летчики, личная лепта нашего города в общей победе над немцами и что поэтому им, летчикам, не стоит слишком затериваться в толпе пленных.
«Ладно, не затеряемся», — как бы отвечали летчики своим суховатым кивком. Возможно, им надоедали эти бесконечные напоминания. Во взгляде летчиков на свой самолет тоже было немало смешного. Теперь, осовременивая впечатление от этого взгляда, но не меняя его сути, я бы осмелился привести такой образ. Так мог бы смотреть посетитель ночного кабаре на танцовщицу этого кабаре, в которой вдруг узнал свою бывшую жену. В качестве бывшего мужа он как бы оскорблен этой встречей и в то же время показывает взглядом, что никакой ответственности не несет за ее теперешнее поведение.
Но вернемся к нашему хироманту. После войны, когда в наших краях стало появляться довольно много туристов, он сам себя назначил проводником в эту теперь уже знаменитую пещеру. В разгар сезона он обычно сидел у входа в пещеру в одних трусах, иногда измазанный пещерной глиной, якобы удерживающей организм от постарения.
— Войдешь старичком, выйдешь бодрячком! — говорил он, подмигивая и кивая на рыжую команду, если она околачивалась рядом.
Туристы, как правило, клевали на его призыв, и тогда он им предлагал раздеться, раздавал свечи собственного изготовления и, оставив одежду под присмотром кого-нибудь из рыжиков, отправлялся в путь. По дороге он успевал себе выбрать, как бы шутливо, интеллигентную фаворитку в купальном костюме.
В пещере он обычно рассказывал историю поимки немецких летчиков и показывал на сталактит, за который они держались, когда их стала поднимать вода. Высоко подняв свечи, туристы вглядывались в вершину сталактита, стараясь разглядеть на ней следы пребывания немецких летчиков, хотя никаких следов там не было.
Когда группа доходила до места, где имелись небольшие, по его уверениям, запасы целебной глины, он предлагал всем натереться этой глиной, а фаворитку натирал сам.
В глубине пещеры у самого ручья был очень крутой, метров на десять, глинистый (по-моему, такой же целебный) обрыв, раскатанный неугомонными задами его рыжих волчат. Обрыв этот можно было обойти, но хиромант всегда приводил туристов к этому месту.
Обычно, подходя к этому месту, он отбирал у них свечи, часть из них гасил, а одну или две, придавив к ближайшим сталактитам, оставлял гореть. После этого он пропускал вперед ничего не подозревающих туристов, а сам, придерживая за руку свою избранницу, оставался сзади.
Туристы один за другим с предсмертным воплем летели в бездну и тут же бултыхались в довольно глубокий бочаг, служивший вполне безопасным тормозящим устройством.
Каждый раз после того, как кто-нибудь летел вниз, сверху раздавался демонический хохот хироманта. Проводив всех в бездну, он вместе с фавориткой обрушивался вниз, на лету издавая радостный вопль.
— Афинские ночи!
Это была его любимая шутка, которая ему никогда не надоедала. Многие туристы говорили, что после выхода из пещеры они ощущали исключительный прилив физических и духовных сил, который объясняли немедленным воздействием целебной глины.
Я сам неоднократно обрушивался в эту бездну, и надо сказать, что радость по поводу того, что остался жив, надолго перекрывала несколько мгновений ужаса, испытанного во время падения.
Гадать он, кстати, предлагал после выхода из пещеры, уже дружественно и весело настроенным туристам. Если гадание проходило успешно, он в виде особой любезности предлагал им купить пещерный жемчуг, маленькие, с горошину, желтоватые камушки, которые, по-моему, он сам же обтачивал.
Если же туристы, проходившие по этим местам, отказывались гадать, покупать свечи, вымазаться целебной глиной, поверить в естественное происхождение пещерного жемчуга и вообще никак не давали себя загнать в пещеру, хиромант мрачно кивал головой и говорил:
— Ничего, идите, идите...
С несколько подпорченным настроением туристы шли дальше, и ничего особенного с ними не случалось. Разве что, если в компании не было достаточно решительных мужчин, их догонял рыжий выводок и отбирал бутерброды и банки со сгущенным молоком.
После войны хиромант перестал ездить по дворам и гадать. То ли люди стали плохо верить в хиромантию, то ли ему запретили в связи с внесением большей четкости в идеологическую работу, остается неизвестным.
Где-то в конце сороковых годов он исчез вместе с осликом и всем своим многочисленным выводком. Все же в памяти старожилов нашего города (напоминаю, что речь идет о городе Мухусе, а не каком-нибудь другом, чтобы не было путаницы, обид, жалоб), так вот в памяти старожилов нашего города он оставил довольно яркий след, его и сейчас хорошо помнят.
Жил старик со своею старушкой
В Чегеме у одной деревенской старушки умер муж. Он был еще во время войны ранен и потерял полноги. С тех пор до самой смерти ходил на костылях. Но и на костылях он продолжал работать и оставался гостеприимным хозяином, каким был до войны. Во время праздничных застолий мог выпить не меньше других, и если после выпивки возвращался из гостей, костыли его так и летали. И никто не мог понять, пьян он или трезв, потому что и пьяным, и трезвым он всегда был одинаково весел.
Но вот он умер. Его с почестями похоронили, и оплакивать его пришла вся деревня. Многие пришли и из других деревень. Такой он был приятный старик. И старушка его очень горевала.
На четвертый день после похорон приснился старушке ее старик. Вроде стоит на тропе, ведущей на какую-то гору, неуклюже подпрыгивает на одной ноге и просит ее:
— Пришли, ради Бога, мои костыли. Никак без них не могу добраться до рая.
Старушка проснулась и пожалела своего старика. Думает: к чему бы этот сон? Да и как я могу послать ему костыли?
На следующую ночь ей приснилось то же самое. Опять просит ее старик прислать ему костыли, потому что иначе не доберется до рая. Но как же ему послать костыли? — думала старушка, проснувшись. И никак не могла придумать. Если еще раз приснится и будет просить костыли, спрошу у него самого, решила она.
Теперь он ей снился каждую ночь и каждую ночь просил костыли, но старушка во сне терялась, вовремя не спохватывалась спросить, а сон уходил куда-то. Наконец она взяла себя в руки и стала бдеть во сне. И теперь, только завидела она своего старика и даже не дав ему раскрыть рот, спросила:
— Да как же тебе переслать костыли?
— Через человека, который первым умрет в нашей деревне, — ответил старик и, неловко попрыгав на одной ноге, присел на тропу, поглаживая свою культяпку. От жалости к нему старушка даже прослезилась во сне.
Однако, проснувшись, взбодрилась. Она теперь знала, что делать. На окраине Чегема жил другой старик. Этот другой старик при жизни ее мужа дружил с ним, и они нередко выпивали вместе.
— Тебе хорошо пить, — говаривал он ее старику, — сколько бы ты ни выпил, ты всегда опираешься на трезвые костыли. А мне вино бьет в ноги.
Такая у него была шутка. Но сейчас он тяжело болел, и односельчане ждали, что он вот-вот умрет.
И старушка решила договориться с этим стариком и с его согласия, когда он умрет, положить ему в гроб костыли своего старика, чтобы в дальнейшем, при встрече на том свете, он их ему передал.
Утром она рассказала домашним о своем замысле. В доме у нее оставался ее сын с женой и один взрослый внук. Все остальные ее дети и внуки жили своими домами. После того как она им рассказала, что собирается отправиться к умирающему старику и попросить положить ему в гроб костыли своего мужа, все начали над ней смеяться как над очень уж темной старушкой. Особенно громко хохотал ее внук, как самый образованный в семье человек, окончивший десять классов. Этим случаем, конечно, воспользовалась и ее невестка, которая тоже громко хохотала, хотя, в отличие от своего сына, не кончала десятилетки. Отхохотавшись, невестка сказала:
— Это даже неудобно — живого старика просить умереть, чтобы костыли твоего мужа положить ему в гроб.
Но старушка уже все обдумала.
— Я же не буду его просить непременно сейчас умереть, — отвечала она. — Пусть умирает, когда придет его срок. Лишь бы согласился взять костыли.
Так отвечала эта разумная и довольно деликатная старушка. И хотя ее отговаривали, она в тот же день пришла в дом этого старика. Принесла хорошие гостинцы. Отчасти как больному, отчасти чтобы умаслить и умирающего старика, и его семью перед своей неожиданной просьбой.
Старик лежал в горнице и, хотя был тяжело болен, все посасывал свою глиняную трубку. Они поговорили немного о жизни, а старушка все стеснялась обратиться к старику со своей просьбой. Тем более в горнице сидела его невестка и некоторые другие из близких. К тому же она была, оказывается, еще более деликатной старушкой, чем мы думали вначале. Но больной старик сам ей помог — он вспомнил ее мужа добрыми словами, а потом, вздохнув, добавил:
— Видно, и я скоро там буду и встречусь с твоим стариком.
И тут старушка оживилась.
— К слову сказать, — начала она и рассказала ему про свой сон и про просьбу своего старика переслать ему костыли через односельчанина, который первым умрет.
— Я тебя не тороплю, — добавила она, — но если что случится, разреши положить тебе в гроб костыли, чтобы мой старик доковылял до рая.
Этот умирающий с трубкой в зубах старик был остроязыким и даже гостеприимным человеком, но не до такой степени, чтобы брать к себе в гроб чужие костыли. Ему ужасно не хотелось брать к себе в гроб чужие костыли. Стыдился, что ли? Может, боялся, что люди из чужих сел, которые явятся на его похороны, заподозрят его мертвое тело в инвалидности? Но и прямо отказать было неудобно. Поэтому он стал с нею политиковать.
— Разве рай большевики не закрыли? — пытался он отделаться от нее с этой стороны.
Но старушка оказалась не только деликатной, но и находчивой. Очень уж она хотела с этим стариком отправить на тот свет костыли мужа.
— Нет, — сказала она уверенно, — большевики рай не закрыли, потому что Ленина задержали в Мавзолее. А остальным это не под силу.
Тогда старик решил отделаться от нее шуткой.
— Лучше ты мне в гроб положи бутылку хорошей чачи, — предложил он, — мы с твоим стариком там при встрече ее разопьем.
— Ты шутишь, — вздохнула старушка, — а он ждет и каждую ночь просит прислать костыли.
Старик понял, что от этой старушки трудно отделаться. Ему вообще было неохота умирать и еще более не хотелось брать с собой в гроб костыли.
— Да я ж его теперь не догоню, — сказал старик, подумав, — он уже месяц назад умер. Даже если меня по той же тропе отправят в рай, в чем я сомневаюсь. Есть грех...
— Знаю твой грех, — не согласилась старушка. – Моего старика с тем же грехом, как видишь, отправили в рай. А насчет того, что догнать, — не смеши людей. Мой старик на одной ноге далеко ускакать не мог. Если, скажем, завтра ты умрешь, хотя я тебя не тороплю, послезавтра догонишь. Никуда он от тебя не денется...
Старик призадумался. Но тут вмешалась в разговор его невестка, до сих пор молча слушавшая их.
— Если уж там что-то есть, — сказала она, поджав губы, — мы тебе в гроб положим мешок орехов. Бедный мой покойный брат так любил орехи...
Все невестки одинаковы, подумала старушка, вечно лезут поперек.
— Да вы, я вижу, из моего гроба хотите арбу сделать! — вскрикнул старик и добавил, обращаясь к старушке: — Приходи через неделю, я тебе дам окончательный ответ.
— А не будет поздно? — спросила старушка, видимо преодолевая свою деликатность. — Хотя я тебя не тороплю.
— Не будет, — уверенно сказал старик и пыхнул трубкой.
С тем старушка и ушла. К вечеру она возвратилась домой. Войдя на кухню, она увидела совершенно неожиданное зрелище. Ее насмешник внук с перевязанной ногой и на костылях деда стоял посреди кухни.
— Что с тобой? — встрепенулась старушка.
Оказывается, ее внук, когда она ушла к умирающему старику, залез на дерево посбивать грецкие орехи, неосторожно ступил на усохшую ветку, она под ним хрястнула, и он, слетев с дерева, сильно вывернул ногу.
— Костыли заняты, — сказал внук, — придется деду с месяц подождать.
Старушка любила своего старика, но и насмешника внука очень любила. И она решила, что внуку костыли сейчас, пожалуй, нужней. Один месяц можно подождать, решила она, по дороге в рай погода не портится. Да и старик, которого она навещала, по ее наблюдениям, мог еще продержаться один месяц, а то и побольше. Вон как трубкой пыхает.
Но что всего удивительней — больше старик ее не являлся во сне с просьбой прислать ему костыли. Вообще не являлся. Скрылся куда-то. Видно, ждет, чтобы у внука нога поправилась, умилялась старушка по утрам, вспоминая свои сны. Но вот внук бросил костыли, а старик больше в ее сны не являлся. Видно, сам доковылял до рая, может быть, цепляясь за придорожные кусты, решила старушка, окончательно успокаиваясь.
А тот умиравший старик после ее посещения стал с необыкновенным и даже неприличным для старика проворством выздоравливать. Очень уж ему не хотелось брать в гроб чужие костыли. Обидно ему было: ни разу в жизни не хромал, а в гроб ложиться с костылями. Он и сейчас жив, хотя с тех пор прошло пять лет. Пасет себе своих коз в лесу, время от времени подрубая им ореховый молодняк, при этом даже не вынимая трубки изо рта.
Тюк топором! Пых трубкой! Тюк топором! Пых трубкой! Тюк топором! Пых трубкой! Смотрит дьявол издали на него и скрежещет зубами: взорвал бы этот мир, но ведь проклятущий старик со своей трубкой даже не оглянется на взрыв! Придется подождать, пока его козы не наедятся.
Вот мы и живы, пока старик — тюк топором! Пых трубкой! А козы никогда не насытятся.
Пастух и косуля
Он еще раз заглянул в огромный, километровый провал, поросший кое-где кустами держидерева, лещины, рододендрона и лавровишни. В самой глубине провала шумела белопенная горная речушка. Он поежился. Холодок прошел по его спине при мысли, что он сорвется и полетит вниз. Все-таки он надеялся, что этого не случится.
Над самым обрывом росло молодое буковое дерево. Больше зацепиться было не за что, хотя голос косули, к которой он собирался спуститься, раздавался гораздо правее того места, где рос бук. Но больше зацепиться было не за что.
Дело в том, что уже два дня откуда-то с этого обрыва раздавалось жалобное блеяние косули. Видимо, она сорвалась с крутого склона и очутилась в таком месте, откуда не могла выбраться. В горах и с домашними животными, особенно с козами, это изредка случалось. В таких случаях пастухи старались добраться до животного и вытащить его на ровное место. Если животное оказывалось покалеченным, его резали, часть мяса варили и ели, а часть коптили над костром. Впрочем, за лето на альпийских лугах одну-две козы могли прирезать и так, даже если они никуда не проваливались. Пастухи, дружно евшие мясо, друг на друга донести не могли, а колхозное начальство списывало этих коз как жертв стихийного бедствия.
И вот два дня жалобно блеет косуля, застрявшая где-то на обрыве. Пастухи по гребню хребта подходили к тому месту, откуда раздавался голос косули, но самой косули не было видно, а место, по их мнению, было настолько гиблым, что никто и не подумал попробовать туда спуститься. Правда, один пастух обошел провал, спустился с карабином к речке, чтобы снизу убить ее в надежде, что туша убитой косули, нигде не зацепившись, скатится вниз. Но сколько он ни вглядывался в склон огромного обрыва, он так и не смог нащупать глазами косулю. Пастухи махнули рукой на эту соблазнительную, но недоступную добычу: близок локоть, да не укусишь.
Но пастух Датуша решил сегодня добраться до косули, вытащить ее из провала, а потом пристрелить или на веревке притащить к шалашу, прирезать ее и попировать вместе с товарищами. Он сам не осознавал, что его решительность вызвана невыносимыми звуками жалобного блеяния косули. Конечно, и другие пастухи жалели косулю, но он чувствовал, что жалеет ее гораздо сильнее остальных, но ему было бы в этом стыдно признаться им. Они бы его высмеяли: какой же ты мужчина?
И вот сегодня, когда наступила его очередь дежурить в шалаше и готовить обед пастухам, которые ушли пасти стада коров и коз, он решил вытащить косулю из провала.
Датуше было пятьдесят лет. Он был выше среднего роста, крепкого сложения. На нем была сатиновая рубашка, перепоясанная не кавказским, а широким, как здесь считали, солдатским ремнем. На ногах — черные брюки галифе и крепкие, начищенные бараньим жиром ботинки. Сбоку на поясе в чехле болтался пастушеский нож.
Его загорелое лицо с большими голубыми глазами производило впечатление добродушия, что и соответствовало действительности. Однако наблюдательный человек по крутой, упрямой посадке его головы мог почувствовать в нем сильный характер и не ошибся бы.
Датуша имел прозвище Чистюля. Он был физически необычайно опрятен и, кроме того, когда брался за какое-нибудь дело, доводил его до блеска, казавшегося окружающим излишним и даже глуповатым.
Условно говоря, начиная с пастуха и кончая академиком, люди разделяются на две категории: способные и одаренные. Способные люди делают то или иное дело хорошо в силу технологической угадчивости, комбинационного любопытства, сообразительности. Одаренные люди хорошо делают то или иное дело, когда чувствуют некий этический толчок, заставляющий их действовать. Вне этического толчка часто выглядят глуповатыми. Таким и был пастух Датуша по прозвищу Чистюля.
Лет пятнадцать назад какая-то дикая туристская группа неожиданно вывалилась к их пастушеским шалашам. Пастухи встретили туристов гостеприимно, а сами туристы, среди которых женщин было больше, чем мужчин, выставили водку. Много водки. Датуша поджарил копченое мясо, приготовил мамалыгу. Водку было хорошо запивать ледяным кислым молоком.
Во время вечернего пиршества как-то само собой получилось, что женщины, свободные от кавалеров, распределились между пастухами. Вместе с Датушей их было трое. Женщина, которая по каким-то неведомым расчетам должна была переспать с Датушей, подсела к нему и блестящими, слегка пьяными глазами посматривала на него. Датуша таких вещей не терпел.
— Я женат, — разъяснил он ей, когда приблизилось время расходиться по шалашам.
Известие это вызвало всеобщий хохот, но Датуша ничуть не смутился.
— И я замужем, — сказала женщина с улыбкой, как бы успокаивая его, — тоже мне чистюля...
Тут двое пастухов грохнули от хохота, даже шутливо попадали на траву, не в силах вымолвить ни слова. Туристы удивленно смотрели на них, не понимая, что их так развеселило.
— Вы в точку попали, — наконец сказал один из них, утирая глаза, — мы его тоже называем Чистюлей, только по-абхазски.
— А что, в самом деле, — слегка распалилась женщина и, довольная поддержкой пастухов, повторила: — Да, я тоже замужем.
— Нет, — твердо ответил ей Датуша и посмотрел на нее своими ясными голубыми глазами, — у тебя нет мужа.
Тут от хохота грохнули все, почувствовав в утверждении Датуши какой-то свой философский смысл. Женщина, может быть, по причине некоторого опьянения, этот философский смысл не уловила, а стала рыться в рюкзаке в поисках своего паспорта, что вызвало у всей компании новый взрыв хохота.
Датуша и тут ничуть не смутился, но ушел в свой шалаш и лег спать. Что там происходило снаружи и в других шалашах, он не видел, но мог догадываться. То и дело раздавались голоса и смех подвыпившей компании.
— Куда лезешь, — вдруг услышал он голос одного из пастухов, — ты что, не видишь, что я уже женился?
Он обращался к другому пастуху. Опять раздался дружный хохот. Утром туристы ушли, а пастухи часто вспоминали. эту женщину и, смеясь, говорили Датуше:
— Как она тебя усекла, Чистюля?!
...Датуша подошел к молодому буку, бросил моток веревки, которую держал в руке, а потом снял с плеча карабин и осторожно положил его у подножия бука. После этого он аккуратно распутал веревку, обмотал конец ее за ствол бука и крепко, тремя узлами, прикрепил ее к стволу. После этого он обхватил веревку двумя руками и изо всех сил стал тянуть и дергать ее в стороны для проверки узлов и надежности самой веревки. Веревка была достаточно крепкой, чтобы выдержать тяжесть его тела. Так ему показалось.
Держа второй конец веревки в руке, он осторожно подошел к краю провала, скинул его туда и стал медленно, пропуская веревку сквозь пальцы, опускаться вниз. Двадцатиметровая веревка, телепаясь, заскользила в провал. На полпути вниз виднелся выступ, он боялся, что веревка застрянет на нем. Когда конец веревки достал до выступа, он чуть приподнял ее, откачнул и бросил. Конец веревки обогнул выступ и заскользил дальше. Вскоре вся веревка размоталась, но конец ее не был виден из-за выступа.
Он подумал: хватит ли ему сил после того, как он спустится по веревке, снова по ней подняться? Он решил, что хватит, хотя никогда по веревке никуда не спускался и не поднимался. Но по виноградной лозе метров на пять или десять он, случалось, поднимался на дерево во время сбора винограда. Конечно, лоза потолще веревки, она более шершавая, более ухватистая, но зато здесь можно ногами кое-как опираться о каменистую стену обрыва.
«С Богом!» — мысленно сказал он себе и, сев на край обрыва спиной к нему, ухватился обеими руками за веревку и стал спускаться, стараясь ногами, где только можно, упираться в неровности стены, в выемки и камни, торчащие из нее. Веревка обжигала ладони, и тяжесть собственного тела показалась ему невыносимой. Он вдруг подумал: не вернуться ли ему наверх пока не поздно? Но он преодолел малодушие, как всегда в таких случаях, вспомнив колхозного агронома, которого ненавидел всей душой.
Лет двадцать назад этот агроном, оказавшись два раза в одном застолье с Датушей, очень плотоядно глазел на его жену. Два раза, а не один раз. Если б этот агроном так смотрел на его жену один раз, он, вероятно, простил бы ему это. Но два раза! Он не мог об этом забыть! Правда, агроном был сильно пьян и городского происхождения и, может быть, даже не знал, что на замужнюю женщину так смотреть нельзя.
Но Датуша его возненавидел с тех пор. Отчасти, может быть, потому что тогда никак не мог отомстить агроному или хотя бы оскорбить его словами презрения. Не убивать же этого ничтожного человечка за его мокрые, грязные взгляды! Но и оскорбить его в самом застолье не мог, потому что не был уверен, что и другие заметили эти взгляды. Если бы он его оскорбил, все поняли бы, за что он его оскорбил. А ему это было неприятно. К тому же по чегемским обычаям портить застолье скандальной бучей считалось признаком крайней невоспитанности.
И так эту обиду Датуша с собой и унес, и с годами она нисколько не затухала. Но и вспоминал он о ней в минуты крайней опасности. А так почти не вспоминал. Но в минуты крайней опасности он особенно ярко и яростно вспоминал неотомщенного агронома, и те два застолья вставали перед его глазами, как одно. При этом уже постаревший агроном (он и тогда был старше его) виделся ему теперешним, расплывшимся, слегка трясущимся стариком, а жена виделась такой же молодой, какой она была двадцать лет назад. И от этого взгляды агронома в его воображении делались особенно бесстыжими и позорными.
И каждый раз в минуты крайней опасности перед его глазами вставал этот агроном, и каждый раз ярость перешибала страх, приходила уверенность, что он должен жить и будет жить, если не для мифической мести агроному, то, во всяком случае, назло ему; агроном — казалось ему в эти минуты — только и делает, что ждет его смерти.
Итак, вспомнив агронома, он преодолел малодушие и продолжил спуск, иногда ловя носком ботинка выемки в стене или торчащие камни. Опираясь на них ногой, он несколько мгновений передыхал и снова пускался в путь. Когда он елозил ботинками по стене, от нее отрывалась каменная осыпь и, перещелкиваясь, летела вниз.
Он надеялся, добравшись до большого выступа из стены, через который он еще наверху так старательно перебрасывал веревку, там постоять обеими ногами и отдохнуть.
Он взглянул вниз и увидел, что этот выступ уже совсем недалеко от него, метрах в трех-четырех. И, увидев, что выступ близко, он почувствовал, что руки его совсем одеревенели, веревка обжигает пальцы, еще мгновение — и он полетит вниз. Но какими-то сверхусилиями он удержался на веревке, несколько раз перебрал руками и, наконец, почувствовал под подошвами ног твердость выступа.
Минут десять он старался отдышаться. Потом еще минут пять встряхивал руками, стараясь оживить их и дать им отдохнуть. Потом он шагнул на край выступа и заглянул в глубину чудовищного провала. И он подумал, что, если бы не этот выступ, он, вероятно, рухнул бы вниз от усталости рук.
Однако, успокоившись, он подумал, что скорее всего, это не так. Привычка всю жизнь иметь дело с тяжелой физической работой подсказывала другое.
Например, когда несешь на плече бревно для костра и мысленно намечаешь себе впереди место, где ты остановишься передохнуть, поставив бревно на землю, всегда перед самым этим местом, за несколько метров до него, тяжесть начинает неимоверно давить на плечо и ты еле доносишь бревно до этого места.
Силы человеческого тела сообразуются с местом обещанного отдыха. Он это заметил давно. Перед местом обещанного отдыха человеческое тело, как бы боясь, что воля человека отменит обещанный отдых, симулирует бессилие. Так и теперь, отдохнув, он понял, что, если бы этот выступ оказался дальше на несколько метров, руки его все-таки донесли бы до него и только в самой близи от выступа он почувствовал бы страшное бессилие.
Он посмотрел по ту сторону провала, где поднималась пологая зеленая гора. Поближе к вершине ее виднелся пастушеский шалаш. Там жили пастухи из другого села. На склоне горы паслись коровы и виднелась фигурка пастуха, который сидел среди своих пасущихся коров. Он играл на дудке, и довольно заунывные звуки ее порой еле слышно доносились до Датуши. И он на миг позавидовал его безмятежности.
Пора было двигаться дальше. В ботинки ему набились скальная осыпь и мелкие камушки. Он присел, расшнуровал ботинки, скинул их и тщательно выбил о выступ. Потом полез рукой в каждый ботинок, стараясь пальцами соскрести то, что не удалось выбить. Потом он снял носки и протер ими вспотевшие ноги, вывернул, отряхнул от всякой трухи и снова надел. Потом натянул ботинки и тщательно зашнуровал их.
Он стал спускаться дальше вниз. Веревки оставалось еще метров пять, когда он ботинками нащупал под ногами выступ карниза. Встав обеими ногами на узкий, примерно в полметра, карниз, он посмотрел вдоль него направо.
Так вот, где она! Метрах в пятнадцати от себя на этом же карнизе он увидел косулю. Там, где она стояла, карниз расширялся. Это было стройное животное. Бурая шерсть на спине косули, поближе к хвосту, желтела и золотилась, превращаясь в пепельно-белую подпалину на животе. Косуля стояла к нему в профиль, но, увидев его, она повернула в его сторону голову и неподвижно смотрела на него. Почти прямо за ней карниз обрывался.
Минут десять они смотрели друг на друга. Потом он поднял глаза над ней, стараясь найти следы ее падения на этот карниз, но ничего не нашел. Обрыв над ней был гораздо более пологий и травянистый, но метров за десять от карниза, на котором она стояла, начиналась крутая, каменная стена.
Но как же подойти к ней? И как она будет вести себя, если он подойдет к ней и погонит ее впереди себя? Он мог бы ее там же прирезать ножом, но понял, что по этому узкому карнизу с мертвой косулей за плечами он не сможет вернуться назад. Нет, надо подойти к ней и гнать ее по карнизу впереди себя. Через пару шагов от того места, где он спустился, карниз снова обрывался, и косуля никуда от него уйти не смогла бы. В руках у него оставалось еще метров пять свободной веревки. Держась за нее, можно было смело пройти по карнизу до конца веревки. А дальше? Оставалось метров десять. Он тщательно осмотрел карниз между собой и косулей, ища возможного подвоха по дороге. Карниз был достаточно ровным, но и без того узкий, он поближе к косуле еще больше сужался, а там, где стояла косуля, снова расширялся.
И потом, как лучше идти? Спиной к стене, держа перед глазами распахнутое пространство, куда боишься рухнуть? Или лицом к стене, когда опасность делается еще опаснее, потому что она за спиной? Но если идти лицом к стене, можно использовать какие-то неровности в стене или щели, куда можно просунуть пальцы. Впрочем, особых неровностей в стене или тем более щелей он не заметил. «Но вдруг камни карниза подо мной обрушатся, — подумал он. — Когда больше возможностей, слетая со стены, уцепиться за что-нибудь — если ты скользишь лицом к провалу или спиной к нему? Трудно сказать. Невозможно сказать. Как повезет. Но если я все-таки дойду до косули, а она вдруг упрется или шарахнется в мою сторону? Не дай Бог!»
Он слышал, что иногда косули, загнанные волками, выбегали на горных дорогах прямо на человека или людей, идущих по дороге. И даже какое-то время шли вместе с людьми. Он это слышал от других людей, но сам этого никогда не видел. Как это понять?
Неужели косуле кажется, что человек менее опасен, чем волк? Во время горной охоты косули чутко чувствовали человека и старались его близко не подпускать. Но вот, оказывается, когда приходится выбирать между человеком и волком, косуля выбирает человека. Бедная косуля, если б она лучше знала человека! И все-таки приятно, что она от волка бежит к человеку. Но как к ней подойти? Опасно. Страшно.
И вдруг косуля, глядя на него, жалобно заблеяла. Жалобный звук ее блеяния, прямо обращенный к нему, пронзил его насквозь. И он решил дойти до нее во что бы то ни стало. Хотя и сомнения оставались. Сумеет ли он подтащить ее к веревке, не упрется ли она на этом узком карнизе, как глупый козел. «Ну что ж, — подумал он, — если она упрется и не пойдет, я оставлю ее, и совесть моя будет чиста. Совесть», — повторил он про себя удивленно, но и сам не мог понять, при чем тут совесть.
Он крепко взялся за веревку и, встав лицом к стене, стал боком идти в сторону косули, осторожно перебирая веревку и стараясь все время держать ее натянутой. Но вот веревка кончилась. Теперь надо было бросать ее и идти самому. Однако, прежде чем бросить веревку, он догадался, что она откачнется назад и тогда при возвращении (если оно состоится) эти пять метров тоже придется идти без веревки. Он оглядел обрыв и увидел почти над самой головой приземистый куст самшита. Он осторожно перебросил конец веревки через куст и завязал его одним узлом. Теперь он был уверен, что веревка не уползет.
Он посмотрел вниз, прежде чем сделать первый шаг без веревки. Теперь провал под ним показался ему еще более бездонным. Еще метров на двадцать по крутому склону кое-где росла альпийская трава, зеленели редкие кустарники, а дальше шла до самой речки голая и белая, как смерть, меловая осыпь. Там уж ни за что не зацепишься, если сорвешься.
Он решил больше вниз не смотреть, чтобы не закружилась голова. Он посмотрел на косулю. Косуля стояла неподвижно, как изваяние, и следила за ним. Стараясь как можно плотнее вжаться спиной в стену и глядя на место, куда поставит ногу, он сделал первый шаг, осторожно перенес на шагнувшую ногу тяжесть тела и подволок вторую ногу к ней. Он почувствовал, что ноги его стали дрожать мелкой подлой дрожью. Он эту дрожь не мог остановить и, зная, что она только усилится, осторожно поспешил вперед.
Он старался держать тело с некоторым запасом отклонения к стене, чтобы, случайно покачнувшись, не рухнуть вниз, имея перевес в сторону стены. Но от этого двигаться было труднее: спина терлась о стену. Через несколько минут он остановился. Теперь он был в пяти метрах от косули. Но карниз совсем сузился, он теперь был даже чуть короче длины его ботинка.
Ноги дрожали все сильнее и сильнее. Была безумная мысль сделать еще два-три шага и уже прыгнуть на площадку, где стояла косуля. Но он чувствовал, что ни сил, ни духу не хватит это сделать. И вдруг он понял, что отсюда никогда не выберется. Конец, подумал он, теперь ни вперед ни назад. Тело наливалось чугунной тяжестью и отказывалось ему служить. Оно чугунело с такой быстротой, что он понял: скоро, скоро он просто не удержится на ногах и рухнет в безжалостный провал.
И тут перед его глазами снова встал агроном. Старый, расплывчатый, каким он был сейчас, он смотрел на его молоденькую жену, какой она была двадцать лет назад. И его толстые плотоядные губы были жадно приоткрыты, а слезливые глаза щурились от предвкушения... Мразь!
И ярость пронзила Датушу и выпрямила его. «Надеешься, что я рухну вниз, гадина, — сказал он про себя. — Нет, никогда этого не будет и никогда я тебе не прощу твои гяурские взгляды. Никогда!»
Видение агронома исчезло вместе со страхом. Ноги перестали дрожать, тело ожило. Но все-таки пройти последние пять метров по карнизу он и сейчас не рисковал. Что же делать?
Косуля продолжала на него смотреть. Если он не в состоянии подойти к ней, может, попробовать чем-нибудь приманить ее? Ведь она два дня ничего не ела. Он осторожно повернулся и оглядел стену над собой. Кое-где над карнизом плющились кусты ежевики и лещины. Но до них было трудно дотянуться. Прямо над ним торчал куст лещины. Он распрямился, встал на цыпочки и правой рукой дотянулся до первого листика ближайшей ветки. Он осторожно стал тянуть на себя этот листик так, чтобы пригнуть вместе с ним ветку, но и не разорвать листик и успеть цапнуть ветку левой рукой. Стоять на цыпочках и медленно тянуть ветку за листик, который мог оборваться в любой миг, было неудобно и страшно. Ноги его стали снова дрожать, а он тянул и тянул листик, стараясь не оборвать его, и, наконец почувствовав, что может ухватить ветку левой рукой, выбросил ее над собой, рискуя потерять равновесие и свалиться вниз, если листик в последний миг оборвется. Но листик не оборвался, и он успел схватить ветку левой рукой и пригнуть ее.
Весь куст лещины согнулся с этой веткой, и он теперь обеими руками держался за него и стоял на ногах, и страх исчез. Он выломал наиболее густолистую ветку лещины и осторожно, продолжая другой рукой держать за пригнутый куст, протянул ветку косуле.
Теперь между протянутой веткой и косулей было около полутора метров. Косуля с любопытством смотрела на ветку, но не двигалась. Так прошло минут пять. Он не знал, что делать. Тогда он решил подразнить ее этой веткой. Он стал сперва потряхивать ею, а потом оттягивать ее от косули. Когда он стал потряхивать веткой, и листья на ней задрожали, морда косули ожила, и глаза выразили удивление по поводу дрожащих листьев.
Когда он, продолжая потряхивать веткой, оттянул ее к себе, косуля встрепенулась, однако не последовала за веткой. Но казалось, тайна дрожащих листьев продолжает ее занимать. Он снова протянул ей ветку. Косуля замерла, глядя на ветку. Он опять стал потряхивать ветку, и листья на ней задрожали. Казалось, косуля очень хочет и никак не может понять, от чего дрожат эти листья. Тогда он стал медленно убирать ветку, продолжая потряхивать ею. Косуля не выдержала тайну дрожащих листьев и потянулась за веткой. Он сунул кончик трепещущей листьями ветки прямо ей под нос.
Шумя листьями, косуля стала жадно обгладывать ветку. Он продолжал ее потряхивать и заметил, что косуля чаще хватается за наиболее живо дрожащие листья, как бы боясь, что они отлетят.
Обгладывая листья, она смело двигалась в его сторону все ближе и ближе. Слышалось, как жадно листья хрустят у нее на зубах. Когда она обглодала всю ветку, он хотел сломать новую, но косуля вдруг стала требовательно и быстро лизать ему руку своим шершавым языком. Совсем как коза! Возможно, кожа человека содержит соль, подумал он, и потому все травоядные, которым всегда не хватает соли, любят лизать человеческое тело. А может, это знак благодарности? Может, она ждет от него спасения?
Он придвинул руку поближе к себе, и косуля, смело сделав шаг к нему, снова стала лизать ему руку. Тогда он, прижавшись спиной к стене, сделал осторожный шаг назад. Косуля снова потянулась к нему и снова стала лизать тыльную сторону его ладони.
И вдруг он почувствовал прилив сил и уверенности. Он подумал, что, если вдруг его нога соскользнет с карниза, он успеет ухватиться за косулю и не рухнет в провал. Он знал, что на крутых склонах животные, особенно козы, гораздо устойчивее, чем человек. Но и они иногда проваливаются. Почему-то мысль провалиться вместе с косулей и погибнуть на дне обрыва показалась ему не такой страшной, как провалиться одному.
И вот так, делая осторожный шаг боком и подставляя косуле свою ладонь, он постепенно приближался к веревке, и ноги теперь у него не дрожали. Наконец он дошел до того места, где конец веревки был перекинут за самшитовый куст. Он сдернул веревку с куста и сразу легко вздохнул. Теперь он стал лицом к стене, ухватился за веревку обеими руками и, перебирая ее, двинулся дальше все так же осторожно, но более уверенно. После каждого шага он, продолжая держать веревку правой рукой, подставлял левую косуле, и она все так же ненасытно лизала ее своим шершавым языком.
Они подошли к месту, куда он спустился по веревке. Он продел конец веревки под живот косуле возле передних ног, потом для страховки один раз перетянул тело веревкой и, туго стянув ее, завязал тройным узлом. Тело косули было горячее и плотное, и прикасаться к нему было приятно. Пока он ее подвязывал к веревке, она ему мешала, мотая головой и все время норовя лизнуть ему руку.
Ему подумалось, что полдела сделано. Он разогнулся и почувствовал необыкновенный прилив сил. Он почему-то, сам не зная почему, отказался от мысли прирезать здесь косулю, потом подняться самому наверх и вытянуть туда ее тушку. Теперь он решил подняться наверх, вытянуть косулю, а потом уже наверху пристрелить ее или на веревке привести к пастушескому шалашу. Он ухватился как можно выше обеими руками за веревку, повис на ней и, упираясь ногами, где только можно, в скальную стену, стал подниматься вверх. Под самым выступом, где он отдыхал, когда слезал, рос большой развесистый куст рододендрона. Когда он слезал по веревке, он скользнул поверх куста, подмяв его ветки. Сейчас ветки рододендрона нависли над ним, он с трудом раздвинул их и влез на выступ.
Руки у него страшно устали. Он сел на выступ и, продолжая держать веревку, заглянул вниз. Косуля снизу смотрела на него. Их взгляды встретились, и она коротко и жалобно проблеяла. Ему показалось, что ее блеяние означало: «А я?!»
— Сейчас, сейчас, — сказал он вслух, словно косуля могла его понять. И она, словно в самом деле поняв его, поднялась на задние ноги и, упершись передними ногами в стену обрыва, замерла, глядя на него. Всей своей позой она как бы показывала ему, что стремится оказаться рядом с ним.
Немного отдохнув, он полез дальше вверх, используя в стене каждый торчащий из нее камень или выбоину, чтобы поставить ноги. Теперь, когда он лез наверх, было видно, что в стене гораздо больше неровностей, куда можно поставить ногу. Взгляд снизу вверх на стену был почему-то плодотворнее, чем взгляд сверху вниз. Он в этом убедился, но не понял, почему это так.
Наконец он вылез на гребень хребта. Он был сильным мужчиной, но руки у него здорово устали. Ладони горели. Красные рубцы от давления веревки пересекали их. Он разлегся на траве, раскинув руки и глядя на бездонный синий купол неба, где медленно кружились орлы. Сейчас он вспомнил, что орлы кружились над этим местом и тогда, когда он только вышел на гребень хребта. Теперь ему показалось, что орлы, продолжая кружиться, сдвинулись влево. Если это так, значит, они первыми почуяли, что косуля может погибнуть, и ждали этого. Но как они догадались, что живая косуля может погибнуть? Вероятно, подумал он, опыт им подсказывал, что животное, которому предстоит жить, два дня не стоит на одном месте. Пока он отдыхал, снизу несколько раз проблеяла косуля. Солнце уже довольно крепко припекало.
Почувствовав, что силы вернулись к нему, он встал и подошел к обрыву. Он взял в руки веревку, поудобнее расставил ноги, чтобы не поскользнуться, и стал тянуть ее вверх. Сначала он легко вытянул часть веревки, свободную от тяжести косули, потом веревка натянулась, он напряг мышцы и стал вытягивать косулю. Привычка иметь дело с мешками, наполненными мукой или сыром, помогла ему легко определить тяжесть косули — около двух пудов. Сильными, но достаточно соразмерными движениями, чтобы косуля не разбила голову о каменистую стену, он вытягивал ее. Видно, косуля дрыгалась на веревке, потому что веревка дергалась и раскачивалась. Вдруг веревка перестала вытягиваться. Он изо всех сил, напрягая мускулы и боясь, что веревка лопнет, продолжал тянуть ее. Но веревка не двигалась, и косуля заблеяла дурным голосом. Он понял, что ей больно. Он заглянул в провал и, хотя косули не было видно, понял, что она застряла за тем самым выступом. Возможно, она запуталась между сильными и гибкими ветками рододендрона.
«Что же делать, черт возьми?» — подумал он, волнуясь и чувствуя, что руки от напряжения немеют. Мелькнуло видение агронома, но он, тряхнув головой, освободился от него: «Без тебя обойдусь, зараза!» Он решил, что надо отойти на несколько шагов в сторону, а потом тянуть, чтобы косуля поднялась не над выступом, а сбоку, минуя выступ. Он отошел влево метров на пять и стал тянуть веревку, но она не двигалась, а натянулась, как леска, зацепившаяся о подводную корягу. Тогда он отошел направо от выступа, надеясь сдернуть косулю с этой стороны. Но и отсюда он ее никак не мог сдернуть. Видно, она крепко застряла там между ветками рододендрона. Несколько раз, когда он тянул веревку, косуля издавала какое-то кряхтящее блеяние.
Он чувствовал, что силы его иссякают, и он не знал, что делать. Мгновениями его охватывало отчаяние, и ему хотелось выхватить нож и перерезать натянутую веревку. Но ему было жалко косулю, которая в таком случае полетит в бездонную пропасть и, конечно, насмерть разобьется. Он одолел отчаяние и стал думать, как быть дальше. Он решил больше не тянуть веревку вверх, а, наоборот, опустить ее подальше вниз и потом уже, став в сторону, вытягивать косулю мимо выступа. Он ослабил натяжение и попытался опустить веревку. И вдруг почувствовал, что тяжесть косули исчезла. Веревка болталась. У него мелькнула мысль, что косуля вообще выпала из веревки, а конец ее сам запутался в кустах рододендрона. Тогда он снова вытянул веревку и с облегчением почувствовал на ней живую тяжесть косули. Да, это была именно живая тяжесть живой косули, а не сопротивление веревки, запутавшейся в кустах. Сопротивление застрявшей веревки было бы более упругим, как и ветви рододендрона. И тогда он понял, что косулю держит куст рододендрона настолько крепко, что ее теперь ни вверх поднять, ни вниз опустить невозможно.
Надо было снова самому спуститься вниз до выступа, выпутать косулю из кустов рододендрона, взгромоздить на выступ, а потом снова подняться и тянуть ее вверх.
Для страховки все еще придерживая веревку, но не чувствуя на ней тяжести косули, он постоял у обрыва, давая рукам отдохнуть. Теперь его беспокоила сама веревка. Она столько терлась и ерзала по скалистому обрыву, что он боялся, как бы она не оборвалась под тяжестью. Ту часть веревки, которую он уже вытянул, он тщательно осмотрел, и она ему показалась все еще надежной, хотя кое-где чуть-чуть забахромилась.
Уже было жарко. От всех своих усилий он так вспотел, что рубашка на нем была совсем мокрая. Продолжая держать ослабленную веревку и перекладывая ее из одной руки в другую, он отстегнул пояс, скинул рубашку и, отряхнув, аккуратно положил ее подальше от обрыва, чтобы случайным порывом ветерка ее не сдунуло в провал. Теперь он остался в майке. Он поднял ремень и, плотно перетянув его на пояснице, застегнул.
Стукнув ногой по земле, он почувствовал, что в ботинки ему снова набились скальная осыпь и мелкие камушки. Присел и разулся, стараясь не забывать о веревке. Вытряхнул ботинки, вытряхнул носки и снова обулся. Подошел к провалу.
Сбросив вниз ту часть веревки, которую уже вытянул, он, снова ухватившись за нее, полез в обрыв.
Теперь он боялся, как бы косуля не сорвалась с ветвей рододендрона и не повисла в воздухе. Тогда веревке пришлось бы держать их обоих, и он не очень был уверен, что она выдержит после стольких ерзаний по скалистому обрыву. И он старался спускаться как можно быстрее. Вскоре он был на выступе. Чувствуя сильную усталость, он лег ничком на скальный выступ и, продолжая держать веревку, пролежал на нем минут пятнадцать. Скала уже нагрелась от солнца, и лежать на ней было приятно. Вдруг он совсем рядом услышал жалобное блеяние косули. Казалось, она почуяла его близость и хотела сказать: «Ну, что ты там?»
Держась одной рукой за веревку, он заглянул вниз. В самом деле, косуля запуталась в гибких и крепких, как ремни, ветках рододендрона. Надо было очень сильно вытянуться из-за выступа, чтобы руками достать ее, а потом, выпутав из веток, взгромоздить на выступ.
Тут он почувствовал новую опасность. Если косуля выпутается из кустов до того, как он успеет крепко обхватить ее, то оттого, что сейчас свободной веревки слишком много, она может рухнуть и разбиться о карниз. Или еще хуже: пролетит мимо, оборвет веревку и скатится на дно обрыва. Он прихватил свободную часть веревки, намотал ее на свой пояс и завязал несколькими узлами.
После этого он уже смело вытянулся над выступом и стал одной рукой отодвигать упругие ветви, спеленавшие тело косули. Ветки выскальзывали из рук, потому что он едва дотягивался до них, а второй рукой не мог себе помочь, потому что упирался ею в скалу. А две ветки, накрывавшие косулю, оказались настолько крепкими и упругими, что он был не в состоянии далеко отодвинуть их. Как только он, отодвинув их, бросал, они с какой-то одушевленной злостью возвращались назад и накрывали тело косули. Он намучился с ними. От неудобной позы кровь сильно прилила к голове, и он в конце концов выхватил нож из чехла и, все больше и больше раздражаясь и даже приходя в ярость, потому что они и под ножом гибко отодвигались, все-таки кое-как перерезал их. При этом ему приходилось осторожно соразмерять свои движения, чтобы не ранить косулю. Она же, не понимая, что он делает, иногда сама неловкими движениями мешала ему, и он, теряя терпение, порой хотел полоснуть ее ножом по горлу, чтобы она ему не мешала.
Наконец он ее выпутал из веток, положил нож на скальный выступ, дотянулся до веревки, обхватившей тело косули, крепче оперся левой рукой о скалу и с неимоверным напряжением сил в уставшей руке вытянул косулю на выступ. Когда он медленно вытягивал ее на выступ, ему казалось, что он вот-вот выблюет свои внутренности вместе с сердцем. Все-таки вытянул.
Теперь он лежал на скале ничком, чувствуя, что даже шевельнуться нет сил. От страшного напряжения он тут же забылся и уснул. Косуля неистово лизала теперь его полуоткрытое и окончательно просоленное от пота тело. Минут через двадцать он проснулся, смущенно вспоминая свой сон. Ему приснилось, что он лежит в постели с женой. Черт его знает, что может присниться, подумал он и, привстав, вложил нож в чехол. Расстегнув пояс, развязал и выпутал из него веревку. Снова застегнул пояс. Косуля, стоя рядом с ним, продолжала неистово и деловито лизать его плечо.
Не прирезать ли ее здесь, подумал он и вдруг почувствовал, что ему жалко ее резать. Он подумал, что дело в том, что он слишком много сил на нее потратил и потому теперь ему жалко ее. «Ничего, — подумал он, — наверху пристрелю. Сначала отпущу метров на двадцать, а потом пристрелю. Так будет гораздо легче убить ее».
Он снова полез вверх по веревке. Вылез на гребень хребта и сел передохнуть. Потом встал, поудобнее уперся ногами в землю и стал вытягивать лишнюю веревку. Наконец она натянулась, и он стал тащить вверх косулю. Она еще один раз застряла за маленьким выступом, он попытался, собрав все силы, сдернуть ее, но она не одернулась. Он почувствовал, что силы его оставляют, и тут снова явилось видение агронома. «Прочь, гадина, — сказал он ему в сердцах, — обойдусь без тебя». Видение агронома исчезло.
Он сделал несколько шагов в сторону и потянул веревку. Косуля одернулась и пошла вверх. Наконец он ее вытянул на гребень.
Когда он стал отвязывать косулю, она, мешая ему, снова стала лизать ему руку. Он подошел к своему карабину, лежавшему у подножия бука. Косуля шла рядом с ним, пытаясь лизнуть ему руку. Сейчас, здесь, он не мог убить ее. Поэтому он хлопнул ее по спине, чтобы она убежала, но она никуда не убежала, а продолжала лизать ему руку. Тогда он покрепче хлопнул ее по спине.
И вдруг косуля, словно что-то вспомнив, повернулась и побежала от него по гребню хребта. Она бежала, высоко вскидывая задние ноги. Спина ее золотилась. Левый пологий травянистый склон гребня, по которому она бежала, тоже золотился от цветущих примул.
Он поднял карабин, но вдруг понял, что стрелять ему в нее все еще жалко. «Пусть подальше отбежит», — подумал он. Косуля бежала и бежала, и чем дальше она уносилась, тем меньше жалости оставалось в нем. «Еще секунд десять, — подумал он, — и жалости не будет, и я выстрелю в нее».
Но жалость перехитрила его. Через десять секунд косуля уже была так далеко, что он понял: пуля ее не достанет. Грохот пустого выстрела показался ему глупым самообманом, и он даже не приложился к карабину.
И вдруг из-за гребня хребта, где пас коров тот самый пастух с дудкой, раздался пронзительный свист.
— Дурак, дурак, — кричал он ему изо всех сил, — возле тебя косуля пробежала! Куда ты смотрел!
— Сам дурак, — тихо сказал Датуша и не стал ему ничего отвечать. Он только махнул ему рукой, мол, отвяжись. Тот явно заметил косулю, когда она от Датуши была на большом расстоянии. Он с усмешкой представил, что бы тот кричал, если бы увидел, что косуля выскочила у него прямо из-под рук. Он надел рубаху, отвязал веревку от бука и собрал ее в моток. Ему было хорошо. Он сам не знал, почему все так получилось. Он не знал, что мощная страсть спасения косули удержала его от жалкой страсти ее убийства.
Ему было хорошо, легко. В жизни оставалось только одно неудобство: в ботинки снова набились скальная осыпь и мелкие камушки. Он снова присел и разулся. Снова вытряхнул ботинки и вытряхнул носки. Снова обулся и, сидя на земле, посмотрел на небо. Приближался полдень, и пора было готовить обед пастухам. Краем глаза он отметил, что орлы перестали кружиться над гребнем хребта. Они куда-то разлетелись.
Перекинув карабин через плечо и подхватив моток веревки, Датуша поспешил к своему шалашу. Сейчас он был озабочен тем, чтобы успеть пастухам приготовить обед. Он не собирался рассказывать им о приключении с косулей. Он почувствовал, что они бы его не поняли. И тем более ему было бы стыдно опоздать с обедом — ведь времени было много.
Колчерукий
Я уже писал, что однажды в детстве, ночью, пробираясь к дому одного нашего родственника, попал в могильную яму, где провел несколько часов в обществе приблудного козла, пока меня оттуда не извлек, вместе с козлом, один проезжий крестьянин. Дело происходило во время войны.
Через некоторое время после моего ночного приключения с козлом в могильной яме мы, то есть мама, сестра и я, стали жить в этой деревне. Сначала мы жили у маминой сестры, а потом наняли комнату в одном доме и переехали туда.
В этом доме до войны жили три брата. Теперь все они были в армии. Один из них успел жениться, и на весь дом оставалась его юная, цветущая и не слишком скучающая жена. Вспоминая ее, я прихожу к выводу, что соломенная вдова потому и называется соломенной, что воспламеняется легко, как солома.
При нас один из братьев вернулся, и именно тот, что был женат. Он как-то слишком бесшумно вернулся. Однажды утром мы его увидели на кухне. Он сидел перед горящим очагом и жарил на вертеле кукурузный початок, словно сам себе напоминал довоенное детство. Было похоже, что лучше бы ему пока не возвращаться. А, может быть, лучше бы ему было подождать с женитьбой, потому что, мне кажется, он скучал по жене, и это ускорило его возвращение.
С какой-то обреченной жадностью с недельку он возился в саду, а потом его взяли, и немного позже мы узнали, что он был дезертиром. Его взяли так же бесшумно, как он пришел.
Постепенно мы освоились на новом месте. Сестра устроилась работать в колхозе учетчицей, нам выделили участок земли, на котором мы выращивали дыни и кукурузу. Тыквы тоже выращивали. Кроме того, мы выращивали огурцы и помидоры. Мы все тогда выращивали.
Оказывается, недалеко от нас жил тот самый человек, в чью могильную яму я тогда угодил. Кстати, про эту могильную яму в деревне говорили, что в нее попадают все, кроме того, кому она предназначалась. История ее оказалась сложной и запутанной. Будущий владелец ее, если можно так сказать, старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, лежал, говорят, в городской больнице не то с аппендицитом, не то с грыжей (хотя по-русски правильней было бы сказать Сухорукий, но Колчерукий точнее соответствует духу, а следовательно, и смыслу прозвища). Так вот, Колчерукому сделали операцию, и он спокойно выздоравливал, когда неожиданно позвонили из больницы в сельсовет и сказали, что больной умер и его надо срочно забрать домой, потому что он уже второй день лежит мертвый.
В это время в больнице никого из родственников не было, потому что он сам вот-вот должен был выписаться. Правда, в эти дни в городе был односельчанин Мустафа, который поехал туда по своим надобностям, и ему, кстати, поручили заглянуть в больницу и узнать, чего Колчерукий не возвращается и не решил ли он заодно с грыжей или аппендицитом избавиться от своей колчерукости. И вдруг такая неожиданная весть.
Родственники, по нашим обычаям, разослали в соседние деревни горевестников, натянули во дворе укрытие из плащ-палатки, где собирались устроить тризну, и даже вырыли на кладбище эту самую яму.
Колхоз выделил свою единственную машину, чтобы привезти покойника, потому что в те времена в связи с войной сделать это частным путем было трудно. Одним словом, все честь по чести, как у людей. Все, как у людей, кроме самого покойника Шаабана Ларба, который и при жизни никому, говорят, покою не давал, а после смерти и вовсе распоясался.
На следующий день после печального известия приехала машина с покойником, который оказался живым.
Говорят, Колчерукий, слегка придерживаемый Мустафой, громко ругаясь, вошел в свой двор. Его возмутила не весть о его смерти и приготовления к похоронам, а то, что он сразу заметил, взглянув на укрытие из плащ-палатки. Из-за этого укрытия пришлось у двух яблонь срезать ветки. Колчерукий, ругаясь, тут же показал, как надо было протягивать брезент, чтобы не трогать деревьев.
Потом он, говорят, обошел гостей, здороваясь с каждым и пытливо вглядываясь в глаза, чтобы узнать, какое впечатление на них произвела весть о его смерти, а заодно и неожиданное воскресение.
После этого он, говорят, поставил над глазами свою усыхающую, но так и не усохшую за двадцать лет руку, стал нахально оглядывать плакальщиц, как бы не понимая, зачем они здесь.
— Вы чего? — громко спросил он.
— Мы ничего, — ответили они, смутившись, — мы приехали тебя оплакивать.
— Ну так начинайте, — говорят, сказал Колчерукий и приставил ладонь к уху, чтобы внимательно слушать свое оплакивание. Но тут кто-то вмешался и отвел плакальщиц от него.
Увидев приношения родственников, говорят, Колчерукий призадумался. Дело в том, что у нас всякого рода поминки устраивают так широко, что, если бы все это делалось за счет семьи умершего, живым ничего бы не оставалось, как ложиться и помирать.
Поэтому в таких случаях все родственники и соседи помогают. Кто принесет вино, кто соленья, а кто и телку пригонит к сороковинам. И как раз один из родственников из соседнего села пригнал хорошую телку, которая Колчерукому особенно понравилась. Кстати, говорят, по размерам этого родственника и вырыли могильную яму, потому что он был примерно такого же роста, как и Колчерукий. Говорят, когда один из парней, которому поручили копать яму, подошел к нему со шпагатом, чтобы измерить его, он проявил недовольство, стал утверждать, что есть люди более подходящие, что он, пожалуй, повыше Колчерукого, а Колчерукий покоренастей.
При этом он пытался отстраниться от шпагата, но парень отстраниться ему не дал. Как и все могильщики, склонный к шутке, он сказал, что теперь коренастость Колчерукого ни к чему, что вообще в крайнем случае, если Колчерукий не подойдет, они его будут держать на примете.
Родственник, говорят, усмехнулся на эти шутки, но, видно, обиделся, потому что отошел к своим односельчанам и стоял среди них, хмуро поглядывая на свою телку, привязанную к забору.
Увидев все эти приношения, Колчерукий объявил, что радоваться рано, что он чувствует себя плохо, да и выписали его, чтобы он не помер в больнице, потому что врачей за это штрафуют, как колхозников за брак. Он тут же лег в постель и дал распоряжение могильную яму не засыпать, а держать наготове. Родственники, говорят, неохотно разъехались. Особенно был недоволен тот, что приволок телку. Но Колчерукий его успокоил, уверив, что ждать теперь недолго, так что телка его навряд ли слишком похудеет, если даже ее не выпускать со двора.
Колчерукий с неделю пролежал в постели. Через пару дней после приезда его стали одолевать любопытные, потому что к этому времени разнесся слух, что Колчерукий, умерший в городской больнице, по дороге ожил и приехал на собственные похороны. Другие говорили, что он не умер, а уснул вечным сном, и доктора его никак не могли разбудить, но по дороге домой его так растрясло, что он проснулся.
Первое время Колчерукий принимал посетителей, особенно пока они приносили всякие гостинцы, как бывшему умершему и еще не окончательно ожившему. Но потом они ему надоели, да и председатель приказал выходить на работу. Так что он, говорят, заслышав скрип ворот, выбегал на веранду и кричал своим громким голосом: «Назад! Дармоеды! Собаку спущу!»
Кстати, слухи о его воскресении как-то сами по себе жили и развивались. Уже через год при нас я слышал, как в одной из соседних деревень говорили, что Колчерукий ожил не по дороге из больницы домой, а в самой могиле через несколько дней после того, как его похоронили. А услышал его какой-то мальчик, который вечером искал на кладбище свою козу. Так что пришлось его откопать. Не будь, говорят, у него такого громкого голоса, умер бы от голода или даже от жажды, потому что место ему выбрали сухое, хорошее.
Вот так вот и оказалось, что Колчерукий пережил или предотвратил свои похороны, правда, оставив за собой могилу в полной готовности.
Увидев живого Колчерукого, сначала в деревне решили, что это секретарь сельсовета подшутил над ними, потому что это он сообщил, что говорил с больницей или с тем, кто выдавал себя за больницу. Но секретарь сельсовета сказал:
— Как я мог так пошутить, когда сейчас военное время.
И все ему поверили, потому что так шутить в военное время даже для секретаря сельсовета слишком глупо. В конце концов решили, что в больнице что-то спутали, что умер какой-то другой старик, может быть даже однофамилец Колчерукого, потому что ларбовцев у нас в Абхазии великое множество.
С первых же дней, как мы стали жить в доме соломенной вдовушки, я уже слышал голос Колчерукого, хотя самого его не видел в глаза.
Ровно в полдень, возвращаясь с колхозной работы домой на обед, он метров за триста от своего дома начинал окликать старуху, проклиная ее и яростно справляясь, готова ли мамалыга к обеду.
На его крики старуха отвечала таким же яростным криком, и голоса их, не теряя ни силы, ни отчетливости, постепенно сближались, потом перехлестывались и, наконец, замолкали. Через некоторое время голос старухи победно выныривал из тишины, но Колчерукий молчал. Позже, когда я стал бывать у них, я понял, что старик молчит по той причине, что рот его занят едой, причем ел он с такой же яростью, так что ругаться одновременно он никак не мог.
Вечерами, возвращаясь с работы, он таким же голосом справлялся насчет своей лошади, скотины или своего внука Яшки и опять же насчет той же мамалыги к ужину.
Потом я познакомился и подружился с этим Яшкой, таким же громогласным, как его дед, но, в отличие от него, добродушным ротозеем. Обычно Колчерукий возил его в школу верхом на своей лошади. Всю дорогу он ругался, что приходится возить его в школу и тратить драгоценное время на этого лоботряса. Яшка молча сидел за дедом, держась за его пояс, и, смущенно улыбаясь, глядел по сторонам.
Если дед бывал в отъезде, в школу его возила бабка на этой же лошади, и он так же сидел за нею и только не позволял ей подъезжать к самой школе, чтобы мальчишки над ним не смеялись. Мы с ним учились в разные смены. Возвращаясь из школы, я их встречал где-нибудь на полпути в школу, и Яшка, вывернув голову, долго-долго, тоскливо смотрел мне вслед, что служило поводом для дополнительной ярости Колчерукого. Яшку приходилось возить в школу, потому что она была в трех километрах от дома, а Яшка был так рассеян, что иногда забывал, куда идет, и сворачивал в сторону.
В первое время, увидев меня на улице, Колчерукий ставил ладонь козырьком над глазами и спрашивал:
— Ты чей будешь?
— Я сын такой-то, — учтиво отвечал я ему и называл маму, которую он хорошо знал еще с давних пор.
— А кто она такая? — спрашивал он громогласно и еще пристальней смотрел на меня из-под своей колчерукой ладони.
— Она сестра жены дяди Мексута, — объяснял я, хотя и понимал, что он притворяется.
— Так вы те самые городские дармоеды? — кивал он в сторону нашего дома.
— Да, — уклончиво подтверждал я, что это мы здесь живем, одновременно как бы отчасти признавая и наше дармоедство.
Он стоял передо мной, удивленно вглядываясь в меня буравчиками глаз, небольшого роста, коренастый, с широкой, по-петушиному красной шеей. Стоял, удивленно вглядываясь в меня, словно осмысливая меня целиком, одновременно прислушиваясь к чему-то постороннему, к тому, что происходило за забором в кукурузе его приусадебного участка, словно по шорохам, по возне, по каким-то ему одному уловимым звукам точно определял все, что делается у него на усадьбе, во дворе и, может быть, в самом доме.
— Так это ты провалился в мою могилу? — спрашивал он неожиданно, продолжая прислушиваться к тому, что делается у него на усадьбе и уже улавливая там какие-то ненормальности и недовольно похмыкивая по этому поводу.
— Да, — отвечал я, с тайной опаской наблюдая за ним, потому что чувствовал, что он начинен какой-то взрывчатой силой.
— Ну и как тебе там показалось? — спрашивал он, продолжая прислушиваться и постепенно возбуждаясь тем, что там происходило, и уже бормоча вполголоса: — Вымерла, что ли, эта старуха... Чтоб она ослепла... Разорит меня, старая дура...
— Хорошо, — отвечал я, стараясь проявить благодарность за гостеприимство. Все-таки это была его могильная яма.
— Место хорошее, сухое, — соглашался он, уже поскуливая от возмущения тем, что происходило у него на усадьбе, и внезапно срывался и кричал своей старухе с места, без разгону, взяв самую высокую ноту: — Эй ты, что-то там хрупает на огороде, хрупает! Чтоб твои уши полопали — свиньи, свиньи!
— Чтоб я их с тобой в твою могилу уложила, вечно тебе мерещатся свиньи! — сразу же отзывалась старуха.
— Я же слышу: чавкают и хрупают, чавкают и хрупают! — кричал он, уже забыв про меня, и голоса их схлестывались, и он, словно ухватившись за конец ее крика, подтягивался на нем и быстро двигался в сторону дома, одновременно перебрасывая ей свой клокочущий голос.
Постепенно мы привыкли к его голосу и уже не обращали на него внимания, и даже когда он куда-нибудь уезжал на несколько дней и вдруг все замолкало, становилось как-то странно, словно чего-то не хватало, словно какой-то пустой звон в ушах раздавался.
Жена его, высокая, выше него, невероятно худая старуха, иногда, когда его не было дома, приходила к нам поговорить с мамой. Бывало, приносила с собой круг сыру, или миску кукурузной муки, или кусочек пахучего, копченного над костром мяса. Смущенно посмеиваясь, она просила спрятать то, что принесла, и, ради Бога, никаких благодарностей, только чтобы этот крикун ее ничего не знал.
Они часами о чем-то говорили с мамой, а жена Колчерукого все курила, скручивая цигарку за цигаркой. Внезапно раздавался голос Колчерукого. Он кричал ей что-нибудь в сторону дома, а она, прислушиваясь к его голосу, тряслась от затаенного смеха, словно боялась, что он услышит ее смех, и в то же время ее забавляло, что он кричит не в ту сторону.
— Ну, чего тебе, я здесь! — отвечала она наконец.
— Ага, дармоедки! Нашли друг друга! В кумхоз вас обеих! В кумхоз! — выкрикивал он после мгновенной паузы, словно онемев от возмущения ее вероломством.
Однажды он подъехал к воротам нашего дома и крикнул мне, чтобы я вынес мешок. Громко ругаясь на то, что этим дармоедам только жуй и в рот клади, он высыпал мне полмешка муки и, продолжая возмущаться тем, что дает свою кукурузу, да еще на мельницу возит ее на своей же лошади, он приторочил свой мешок к седлу и уехал. Отъезжая, он еще крикнул, чтобы этой ничего не говорить насчет муки, потому что и так ему нет никакого житья от ее крику.
Время шло, а Колчерукий, судя по всему, умирать не собирался. Чем дольше не умирал Колчерукий, тем пышнее расцветала телка; чем пышнее расцветала телка, тем грустнее становился ее бывший хозяин. В конце концов, он прислал человека к Колчерукому, чтобы тот намекнул насчет телки. Так, мол, и так, слава Богу, что он остался жив, но телку следовало бы прислать назад, потому что он ее не дарил Колчерукому, а пригнал на сороковины, как хороший родственник.
— Принес яйцо, а хочет взять курицу, — говорят, сказал Колчерукий, выслушав намек. Потом он, говорят, подумал и добавил: — Скажи ему, что, если я скоро умру, можно будет ему приходить без приношенья, а если он умрет, я приду в его дом, как хороший родственник, и пригоню телку от его телки.
Родственник Колчерукого, узнав о его условиях, говорят, обиделся и велел передать Колчерукому уже без всяких намеков, что ему не надо никакой телки, тем более после смерти, что он хочет при жизни получить собственную телку, которую он ему пригнал на поминки, как хороший родственник. А раз Колчерукий до сих пор не умер, значит, надо возвратить телку хозяину. При этом он дал слово, что несмотря на то, что в доме Колчерукого его, измерив шпагатом, унизили, если Колчерукий и в самом деле умрет, он снова пригонит ее.
— Этот человек заставит меня лечь в могилу из-за своей телки, — говорят, сказал Колчерукий, услышав новые разъяснения. — Передайте ему, — добавил он, — что теперь недолго ждать, так что не стоит мучить несчастное животное.
Через несколько дней после этого разговора Колчерукий пересадил из своего огорода на свою могилу пару персиковых саженцев. Возможно, он это сделал, чтобы освежить представление о своей обреченности. Мы с Яшкой помогали ему. Но, видимо, двух персиковых саженцев ему показалось мало. Через несколько дней он ночью вырыл на плантации тунговое деревце и посадил его между этими персиковыми саженцами. Вскоре об этом все узнали. Колхозники, посмеиваясь, говорили, что Колчерукий собирается травить покойников тунговыми плодами. Никто не придал значения этой пересадке, потому что тунговые деревья никто ни до него, ни после него в деревнях не крал, потому что они крестьянам ни к чему, а плоды тунга смертельно ядовиты, так что, значит, в какой-то мере даже опасны.
Бывший хозяин телки тоже замолк. То ли поверил в обреченность Колчерукого, после того как он пересадил на свою могилу тунговое дерево, то ли, боясь его языка, не менее ядовитого, чем тунговые плоды, решил оставить его в покое.
Кстати, рассказывают, что Колчерукий через свой язык в молодости и стал Колчеруким. Дело было так.
Говорят, после какой-то пирушки местный князь в окружении многочисленных гостей сидел во дворе хозяина дома. Князь ел персики, состругивая с них кожуру перочинным ножичком с серебряной цепочкой. Хотя перочинный ножичек с серебряной цепочкой никакого отношения к последующим событиям не имеет, все рассказчики упоминали про этот ножичек, неизменно добавляя, что он был с серебряной цепочкой. Пересказывая этот случай, я хотел избежать перочинного ножичка с серебряной цепочкой, но чувствую, что почему-то должен его упомянуть, что в нем есть какая-то правда, без которой что-то пропадает, а что, я и сам не знаю.
Одним словом, князь ел персики и, благодушествуя, вспоминал свои любовные радости. В конце концов он, говорят, оглядел хозяйский двор и сказал, вздохнув:
— Если б всех моих женщин собрать, пожалуй, не вместились бы в этот двор.
Но Колчерукий, говорят, уже тогда никому благодушествовать не давал, несмотря на свою молодость. Говорят, он высунулся неизвестно откуда и сказал:
— Интересно, сколько бы коз заблеяло в этом дворе?
Этот довольно пожилой князь, говорят, был большой ценитель женской красоты, но, кроме того, его подозревали в древнегреческом грехе, разумеется, если этому греху положили начало именно древние греки. Я лично думаю, что этому греху мог положить начало любой народ, занимающийся скотоводством. А так как все народы в свое время прошли скотоводческую стадию развития, а некоторые ее все еще проходят, как человек, воспитанный в презрении к национальным предрассудкам, считаю, что все они независимо друг от друга могли положить начало этому греху.
Но вернемся к нашему престарелому феодалу. Говорят, в местных кругах князь скромно гордился умением так состругивать кожуру с фруктов, что ленточка кожуры ни разу не прерывалась, пока он полностью не очистит плод. Умение это не изменяло ему даже после бессонной ночи и длительной попойки. Сколько, говорят, за ним ни следили, сколько ни пытались его отвлечь, он так и не ошибся ни разу. Иногда ему нарочно подсовывали плод самой замысловатой и уродливой формы, но он, говорят, рассмотрев его со всех сторон, тут же доставал свой ножичек с серебряной цепочкой и безошибочно пускал его по единственно правильному пути.
Обычно, срезав вьющуюся спиралькой кожуру, он приподымал ее и показывал окружающим. А если среди них была красивая девушка, он подзывал ее и подвешивал эту фруктовую ленточку ей за ушко.
Мне кажется, Колчерукого раздражало это искусство князя. Я думаю, что он издавна следил за ним и был уверен, что рано или поздно ленточка должна оборваться. Возможно, Колчерукий в тот раз возлагал особенно большие надежды на какой-то из этих персиков, но князь его вполне удачно обработал да еще стал хвастаться своими женщинами, хотя, по слухам, оказывал знаки внимания и хорошеньким козочкам. Согласитесь, что тут было отчего взорваться Колчерукому, да еще молодому.
Говорят, после его неожиданных слов князь побагровел и, потеряв дар речи, глядел на Колчерукого выпученными глазами. При этом он продолжал держать в правой руке уже очищенный сочащийся персик, а в левой все тот же перочинный ножичек с серебряной цепочкой.
От ужаса все вокруг замолкли, а князь, не моргая, продолжал смотреть на Колчерукого, и рука его с персиком беспокойно двигалась по воздуху, словно чувствуя неуместность в такую минуту этого сентиментального персика, не говоря уж о том, что невозможно выхватить пистолет из кобуры, одновременно держа в ладони персик, да еще очищенный. Говорят, рука его даже склонилась к земле, чтобы наконец освободиться от этого персика, но в последнее мгновение как-то не решилась, ведь персик-то был оструган, и она, хорошо воспитанная княжеская рука, чувствовала, что очищенный персик никак нельзя положить на землю.
И вот она снова поднялась, эта рука, и мучительное мгновение шарила по воздуху в поисках невидимой тарелки, чувствуя, что кто-то должен подсунуть ей тарелку, но все оцепенели от страха, и никто не догадался помочь ему освободиться от этого, теперь уже непристойно оголенного персика. И тут, говорят, к нему на помощь пришел сам Колчерукий.
— Да сунь ты его в рот! — говорят, подсказал он ему. Не успели гости очнуться от новой дерзости, как стали свидетелями необъяснимого самоунижения князя, который, говорят, с какой-то позорной поспешностью стал заталкивать в рот мокрый, сочащийся персик, продолжая смотреть на Колчерукого ненавидящими глазами. Наконец, кое-как справившись с персиком, он полез за пистолетом. Все еще глядя на Колчерукого выпученными ненавидящими глазами, он молча рылся у пояса, но от сильного волнения или, как уточняют другие, оттого, что у него были скользкие после персика руки, он никак не мог расстегнуть кобуру.
Может быть, еще кто-нибудь и опомнился бы, может быть, успел бы схватить князя за руку или в крайнем случае пинком отбросить Колчерукого в сторону, так что стрелять в него стало бы невозможно и даже опасно для других, но тут, говорят, в тишине в последний раз раздался голос Шаабана. Не в том смысле, что после этого его голос не раздавался, скорее напротив, он стал еще громче и насмешливей, а в том смысле, что после этой фразы он уже перестал быть просто Шаабаном, а стал Шаабаном Колчеруким.
— Там-то он, наверное, быстрее расстегивает, — говорят, сказал он, — потому как козы ждать не любят...
Говорят, он это сказал как-то задумчиво, вроде бы размышляя вслух. Но тут старый князь наконец справился со своей кобурой — раздался выстрел, женщины подняли вопль, и, когда рассеялся дым, Колчерукий уже был самим собой, то есть Колчеруким. Потом у него спрашивали, почему он после первого оскорбления продолжал дразнить князя.
— Уже не мог остановиться, — отвечал Колчерукий.
Позже, когда князь ушел с меньшевиками, а у нас окончательно и бесповоротно установилась Советская власть, Колчерукий стал утверждать, что у него с князем были свои, чуть ли не партизанские счеты, что разговор этот был только поводом или следствием других, более важных вещей.
Одним словом, несмотря на княжескую пулю, Колчерукий продолжал над всеми подшучивать, и шутки его, кажется, не становились безобидней.
Слоняясь по деревне, я его часто видел на табачной или чайной плантации или на прополке кукурузы. Если у него бывало хорошее настроение, он просто дурачился, и тогда все кругом покатывались со смеху.
Он умел подражать голосам знакомых людей и животных, особенно у него получался петушиный крик.
Бывало, в поле бросит мотыгу, разогнется, посмотрит по сторонам и зальется петухом. Почти сразу же откликаются петухи из соседних домов. Все вокруг смеются, ближайший петух продолжает звать его, а он берется за свою мотыгу и приговаривает: «Много ты понимаешь, дурак».
У нас, как, вероятно, у всех, принято считать, что петухи поют со значением, чуть ли не провидят судьбы своих хозяев. Колчерукий, можно сказать, разоблачал петухов, этих сельских провидцев. Надо сказать, что Колчерукий, несмотря на свою полувысохшую руку, работал как черт. Правда, иногда, когда проносился слух, что начинается подписка на заем или мобилизуют оставшихся мужчин на лесозаготовку, он вдевал свою левую руку в чистую красную повязку и ходил в таком виде, пока считал нужным. Думаю, что эта красная повязка ему мало чем помогала, особенно в подписке на заем она ему никак не могла помешать, но все же, видимо, давала лишнюю возможность поспорить, поязвить, понадсмехаться.
Я думаю, что и красную повязку он себе завел, чтобы придать пострадавшей руке военно-партизанский вид. Из бдительности он после каждого вызова в правление вдевал свою руку в повязку, садился на лошадь и ехал.
В накинутой бурке, с рукой в красной повязке, верхом на лошади, он и в самом деле имел довольно бравый военно-партизанский вид.
Все было хорошо, но вдруг стало известно, что председатель сельсовета получил анонимное письмо против Колчерукого. В нем говорилось, что в посадке тунгового дерева на могилу скрывается насмешка над новой технической культурой, намек на ее бесполезность для живых колхозников, как бы указание на то, что ей настоящее место на деревенском кладбище.
Председатель сельсовета показал это письмо председателю колхоза, и тот, говорят, не на шутку перепугался, потому что могли подумать, что он, председатель, подучил Колчерукого пересадить тунговое дерево к себе на могилу.
Я тогда никак не мог понять, почему все обернулось так грозно, когда и до этой бумаги все знали, что он пересадил деревце тунга на свою могилу. Я тогда не знал, что письмо — это документ, а документ потребовать могут, за него надо отвечать.
Правда, еще говорили, что председатель сельсовета мог бы не давать ему ходу, но он, говорят, имел зуб на Колчерукого и потому показал письмо председателю колхоза.
Одним словом, письму был дан ход, и однажды по этому поводу из райцентра прибыл какой-то человек, чтобы выяснить истину. Колчерукий пробовал отшучиваться, но, видно, все-таки струхнул, потому что побрился, продел свою руку в красную повязку и ходил по деревне, глядя на руку с таким видом, словно она вот-вот должна взорваться, а ему, да и окружающим, только и остается, что остерегаться осколков.
— Ну, все, — говорил старый лошадник Мустафа, друг и вечный соперник Колчерукого, — теперь лопай свои тунговые яблоки и залезай в свою могилу, а то в Сибир отправят.
— Сибир не боюсь, боюсь, ты мою могилу займешь, — отвечал Колчерукий.
— В Сибир, говорят, на собаках ездят, — пугал его Мустафа, — так что забери с собой уздечку, может, объездишь себе какого пса. Будет тебе и лаять, и возить.
Надо сказать, что между Колчеруким и Мустафой было давнее соперничество в лошадином деле. У каждого из них были свои подвиги и неудачи. Колчерукий покрыл себя когда-то немеркнущей славой тем, что в Менгрелии во время скачек на глазах у многотысячной толпы (положим, толпа была не такой уж многотысячной) увел какого-то знаменитого жеребца. Говорят, сам Колчерукий сидел на такой замордованной кляче и выглядел так потешно, что, когда он попросил у хозяина жеребца испробовать его ход, тот для смеха разрешил ему, уверенный, что через минуту жеребец его сбросит на землю и от этого станет еще более знаменитым.
Колчерукий, говорят, на пузе слез со своей клячонки и, передавая поводья хозяину жеребца, сказал:
— Считай, что мы обменялись.
— Хорошо, — со смехом ответил хозяин, беря у него поводья.
— Главное, в первый раз не дай себя сбросить, а то затопчет, — предупредил Колчерукий и подошел к жеребцу.
— Постараюсь, — говорят, со смехом отвечал хозяин и, как только Колчерукий взобрался на жеребца, дал знак какому-то парню, стоявшему сзади, и тот изо всех сил хрястнул жеребца камчой.
Жеребец взвился и помчался в сторону Ингури. Говорят, Колчерукий сначала держался как пьяный мулла на скачущем ослике.
Все ждали, что он вот-вот сорвется, а он все шел и шел вперед, и у хозяина начала отваливаться челюсть, когда Колчерукий доехал до конца поляны, но не свернул по кругу естественного ипподрома, а летел все дальше и дальше в сторону реки. Еще несколько минут ждали, думали, что просто лошадь отняла у него поводья, что он ее не смог завернуть, но потом поняли, что это неслыханный по своей дерзости угон.
Минут через пятнадцать за ним мчалась дюжина всадников, но уже ничего не могли сделать.
Колчерукий с ходу с обрыва бросился в реку, и, когда погоня добралась до обрыва, он уже выходил на том берегу, мокрым крупом коня на мгновение просверкнув в прибрежном ольшанике. Пули, посланные вслед, не достигли цели, а прыгать с обрыва никто не осмелился. С тех пор, говорят, это место названо Обрывом Колчерукого. Колчерукий при мне сам никогда не рассказывал эту историю, зато давал ее пересказать другим, сам с удовольствием слушая и внося некоторые уточнения. При этом он всячески подмигивал в сторону Мустафы, если тот был рядом. Мустафа делал вид, что не слушает, но в конце концов не выдерживал и пытался как-нибудь унизить или высмеять его подвиг.
Мустафа говорил, что человек, которому уже прострелили одну руку, можно сказать, порченый человек, и поэтому, пускаясь на дерзость, он не слишком многим рискует. А если он и спрыгнул с обрыва, то, во-первых, спрыгнул от страха, а потом ему ничего другого не оставалось делать, потому что, поймай его погоня, все равно бы пристрелили.
Одним словом, у них было давнее соперничество, и если раньше они его разрешали на скачках, то теперь, по старости, хотя и продолжали держать лошадей, споры свои разрешали теоретически, отчего они у них часто заходили в дебри зловещих головоломок.
— Если в тебя человек стреляет с этой стороны, а ты, скажем, едешь вон по той тропе, куда ты поворачиваешь лошадь при звуке выстрела, и притом вокруг ни одного дерева? — спрашивал один из них.
— Скажем, ты скачешь в гору, а за тобой гонятся люди. Впереди — справа мелколесье, а слева — овраг. Куда ты свернешь лошадь? – допытывался другой.
Эти споры велись двумя людьми, изможденными долгим трудовым днем, возвращавшимися домой с мотыгами или топорами на плечах. Споры эти длились многие годы, хотя вокруг уже давно никто не стрелял, потому что люди научились мстить за обиды более безопасным способом. К одному из этих способов, а именно анонимному письму, кстати, пора возвратиться.
Приехавший из райцентра добивался, чтобы старик рассказал об истинной цели пересадки тунгового дерева, а главное, раскрыл, кто его подучил это сделать. Колчерукий отвечал, что его никто не подучивал, что он сам захотел после смерти иметь тунговое дерево над своим изголовьем, потому что ему давно приглянулась эта не виданная в наших краях культура. Приехавший не поверил.
Тогда Колчерукий признался, что надеялся на ядовитые свойства не только плодов, но и корней тунга, он надеялся, что корни этого дерева убьют всех могильных червей, и он будет лежать в чистоте и спокойствии, потому что от блох ему и на этом свете спокойствия не было.
Тогда, говорят, приезжий спросил, что он подразумевает под блохами. Колчерукий ответил, что под блохами он подразумевает именно собачьих блох, которые не следует путать с куриными вшами, которые его, Колчерукого, нисколько не беспокоят, так же как и буйволиные клещи. А если его что беспокоит, так это лошадиные мухи, и если он в жару подбросит под хвост лошади пару пригоршней суперфосфату, то колхозу от этого не убудет, а лошади отдых от мух. Приехавший понял, что его с этой стороны не подкусишь, и снова вернулся к тунгу.
Одним словом, как ни изворачивался Колчерукий, дело его принимало опасный оборот. На следующий день его уже не вызывали к товарищу из райцентра. Готовый ко всему, он сидел во дворе правления под тенью шелковицы и, не вынимая руки из красной повязки, курил в ожидании своей участи. Тут, говорят, прямо в правление, где совещались между собой председатель колхоза, председатель сельсовета и приехавший из райцентра, прошел Мустафа. Проходя мимо Колчерукого, он, говорят, посмотрел на него и сказал:
— Я что-то придумал. Если не поможет, тихонько, как есть, вместе со своей повязкой, ложись в могилу, а тунговых яблок я тебе натрушу.
На эти слова Колчерукий ему ничего не ответил, а только горестно взглянул на свою руку в том смысле, что он-то готов принять на себя любые страдания, но она-то за что будет страдать, и без того пострадавшая от меньшевистской пули?
Надо сказать, что Мустафа у местного начальства пользовался большим уважением, как умнейший мужик и самый богатый человек в колхозе. Дом у него был самый большой и красивый в деревне, так что, если приезжало большое начальство, его прямо отправляли в хлебосольный дом Мустафы.
То, что придумал Мустафа, было замечательно простым. Прибывший из райцентра был абхазцем, а если человек абхазец, то, будь он приехавшим из самой Эфиопии, у него найдутся родственники в Абхазии.
Оказывается, ночью Мустафа тайно собрал у себя местных стариков, угостил, а потом с их помощью тщательно исследовал родословную товарища из райцентра. Тщательный и всесторонний анализ ясно показал, что товарищ из райцентра через свою двоюродную бабку, бывшую городскую девушку, ныне проживающую в селе Мерхеулы, состоит в кровном родстве с дядей Мексутом. Мустафа остался вполне доволен результатом анализа.
С этим козырем в кармане он прошагал мимо Колчерукого в правление. Говорят, когда Мустафа сообщил об этом товарищу из райцентра, тот побледнел и стал отрицать свое родство с бабкой из Мерхеул и в особенности с дядей Мексутом. Но капкан уже захлопнулся. Мустафа только усмехнулся на его отрицание и сказал:
— Если не родственник, зачем побледнел?
Больше он не стал говорить, а спокойно вышел из помещения.
— Как быть? — спросил Колчерукий, увидев Мустафу.
— Потерпи до вечера, — сказал Мустафа.
— Решайте скорей, — ответил Колчерукий, — а то у меня рука совсем высохнет от этой повязки.
— До вечера, — повторил Мустафа и ушел. В сущности, товарищ из райцентра, не признав родства с дядей Мексутом, нанес ему смертельное оскорбление. Но дядя Мексут сдержался. Он ничего никому не сказал, а только поймал свою лошадь и уехал в Мерхеулы.
К вечеру он вернулся на мокрой лошади, остановился у правления и дал поводья все еще ждущему своей участи Колчерукому. Председатель стоял на веранде и курил, глядя на Колчерукого и окружающую природу.
— Взойди, — сказал председатель, увидев дядю Мексута.
— Сейчас, — ответил дядя Мексут и, прежде чем взойти, сорвал с руки Колчерукого повязку и молча запихнул ее в карман. Говорят, Колчерукий так и остался с рукой на весу, как бы все еще сомневаясь и не принимая смысла этого символического жеста.
Дядя Мексут положил перед товарищем из райцентра желтое и готовое рассыпаться в прах свидетельство о рождении мерхеульской бабки, выданное нотариальной конторой еще дореволюционного Сухумского уезда.
Увидев это свидетельство, товарищ из райцентра, говорят, еще раз побледнел, но отрицать уже ничего не мог.
— Или тебе бабку поперек седла привезти? — спросил дядя Мексут.
— Бабку не надо, — тихо ответил товарищ из райцентра.
— Портфель с собой возьмешь или поставишь в несгораемый шкаф? — еще раз спросил дядя Мексут.
— Возьму с собой, — ответил товарищ из райцентра.
— Тогда пошли, — сказал дядя Мексут, и они покинули помещение.
В этот вечер в доме дяди Мексута устроили хлеб-соль и все обмозговали. На следующее утро в доме дяди Мексута, после длительного обсуждения, мне лично была продиктована справка на русско-кавказско-канцелярском языке.
— Наконец-то и этот дармоед пригодился, — сказал Колчерукий, когда я придвинул к себе чернильницу и замер в ожидании диктовки.
Справка обсуждалась руководителями колхоза с товарищем из райцентра. Колчерукий внимательно слушал и требовал перевести на абхазский язык каждую фразу. Причем он несколько раз уточнял формулировки в сторону завышения своих, как я теперь понимаю, социальных и деловых достоинств.
Особенно бурные споры вызвало место, где объяснялась его колчерукость. Колчерукий стал требовать, чтобы записали, что он пострадал от пули меньшевистского наймита, ссылаясь на то, что ранивший его князек впоследствии удрал с меньшевиками. Товарищ из райцентра хватался за голову и умолял быть точным, потому что он тоже отвечает перед своим начальством, хотя и уважает своих родственников. В конце концов подобрали такую формулировку, которой остались довольны все.
Справка сочинялась так долго, что, покамест я ее писал своим колеблющимся почерком, выучил наизусть. Составители попросили меня громко зачитать ее, что я и сделал выразительным голосом. После этого они дали ее переписать секретарю сельсовета. Вот что было сказано в справке.
«Старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, которое он получил еще до революции вместе с княжеской пулей, впоследствии оказавшейся меньшевистской, с первых же дней организации колхоза активно работает в артели, несмотря на частично высохшую руку (левая).
Старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, имеет сына, который в настоящее время сражается на фронтах Отечественной войны и имеет правительственные награды (в скобках указывался адрес полевой почты).
Старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, несмотря на преклонный возраст, в это трудное время не покладая рук трудится на колхозных полях, не давая отдыха своей пострадавшей вышеуказанной руке. Ежегодно он вырабатывает не менее четырехсот трудодней.
Правление колхоза, вместе с председателем сельсовета, заверяет, что тунговое дерево он пересадил на свою фиктивную могилу по ошибке, как дореволюционный малограмотный старик, за что будет оштрафован согласно уставу сельхозартели. Правление колхоза заверяет, что случаи пересадки тунговых деревьев с колхозных плантаций на общественные кладбища и тем более личные приусадебные участки никогда не носили массового характера, а носят характер единичной несознательности.
Правление колхоза заверяет, что старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, никогда не насмехался над колхозными делами, а, согласно веселому и острому, как абхазский перец, характеру, насмехался над отдельными личностями, среди которых немало паразитов колхозных полей, которые являются героями в кавычках и передовиками без кавычек на своих собственных приусадебных участках. Но таких героев и таких передовиков мы изживали и будем изживать согласно уставу сельхозартели вплоть до изгнания из колхоза и изъятия приусадебных участков.
Старик Шаабан Ларба благодаря своему народному таланту передразнивает местных петухов, чем разоблачает наиболее вредные мусульманские обычаи старины, а также развлекает колхозников, не прерывая полевых работ».
Справка была заверена печатью и подписана председателем колхоза и председателем сельсовета.
Закончив дело, гости вышли на веранду, где были выпиты прощальные стаканы «изабеллы», и товарищ из райцентра через одного из членов правления дал намек, что не прочь послушать, как Колчерукий передразнивает петухов. Колчерукий не заставил себя упрашивать, а тут же поднес свою бессмертную руку ко рту и дал такого кукареку, что все окрестные петухи сорвались, как цепные собаки. Только хозяйский петух, на глазах которого произошел весь этот обман, сначала обомлел от негодования, а потом так раскудахтался, что его вынуждены были прогнать со двора в огород, потому что он оскорблял слух товарища из райцентра и мешал ему говорить.
— Воздействует на всех петухов или только на местных? — спросил товарищ из райцентра, подождав, пока прогонят петуха.
— На всех, — с готовностью пояснил Колчерукий, — где хотите попробуйте.
— Действительно народный талант, — сказал тот, и они все ушли, попрощавшись с дядей Мексутом, который проводил их до ворот и немного дальше.
Председатель колхоза точно выполнил обещанное в справке. Он оштрафовал Колчерукого на двадцать трудодней. Кроме того, приказал пересадить назад тунговое деревце и навсегда засыпать могильную яму во избежание несчастных случаев со скотом. Колчерукий вновь откопал тунговое деревце и пересадил его на плантацию, но оно, не выдержав всех этих мучений, долгое время находилось в полувысохшем состоянии.
— Как моя рука, — говорил Колчерукий. Могилу свою он сумел отстоять, огородив ее довольно красивым штакетником с воротцами на щеколде.
После того как затихла история с анонимным письмом, родственник Колчерукого снова через одного человека осторожно напомнил ему насчет телки.
Колчерукий отвечал, что теперь ему не до телки, потому что его опозорили и оклеветали, что он теперь днем и ночью ищет клеветника и даже на работу ходит с ружьем. Что он не успокоится до тех пор, пока не вгонит его в землю, что он не пожалеет даже собственную могилу на этого человека, если этот человек своими размерами ее не слишком превосходит. Напоследок он передал, чтобы его родственник прислушивался и приглядывался к окружающим, с тем чтобы при первом же подозрении дал ему, Колчерукому, сигнал, а за Колчеруким дело не станет. Что только после выполнения своего мужского долга он, Колчерукий, утрясет с телкой и другими мелкими недоразумениями, вполне естественными в родственных делах близких людей.
Говорят, после этого родственник окончательно примолк и больше про телку не напоминал и старался не встречаться с Колчеруким.
Все-таки на одном пиршестве они встретились. Уже изрядно выпивший, ночью, во время пения застольной песни, допускающей легкие импровизации, Колчерукий несколько раз повторил одно и то же:
О райда сиуа райда, эй,
За телку продавший родственника...
Пел он, не глядя в его сторону, отчего тот, говорят, постепенно трезвел и в конце концов, не выдержав, спросил у Колчерукого через стол:
— Что ты хочешь этим сказать?
— Ничего, — говорят, ответил Колчерукий и оглядел его, как бы снимая с него мерку, — просто пою.
— Да, но как-то странно поешь, — сказал родственник.
— У нас в деревне, — объяснил ему Колчерукий, — все сейчас так поют, кроме одного человека...
— Какого человека? — спросил родственник.
— Догадайся, — предложил Колчерукий.
— Даже не хочу догадываться, — отмахнулся родственник.
— Тогда я сам скажу, — пригрозил Колчерукий.
— Скажи! — осмелился родственник.
— Председатель сельсовета, — промолвил Колчерукий.
— Почему не поет? — пошел напролом родственник.
— Не имеет права давать намек, — разъяснил Колчерукий, — как получающий государственную зарплату.
— Можешь доказать? — спросил родственник.
— Доказать не могу, поэтому пока пою, — сказал Колчерукий и снова оглядел родственника, как бы снимая мерку.
На них уже начал обращать внимание встревоженный хозяин, боявшийся, что ему испортят пиршество, которое он затеял по случаю награждения сына орденом Красного Знамени.
Снова грянула песня, и все пели, и Колчерукий пел вместе с другими, ничем особенным не выделяясь, потому что чувствовал, что хозяин следит за ним. Но потом, когда хозяин успокоился, Колчерукий, улучив мгновение, снова подсочинил:
О райда сиуа райда, эй,
Оградил ее, родимую, штакетником... —
спел он. Но хозяин его все-таки услышал и, говорят, наполнив рог вином, подошел к ним.
— Колчерукий! — крикнул он. — Клянитесь нашими мальчиками, которые кровь проливают, защищая страну, что вы навсегда помиритесь за этим столом.
— Я про телку забыл, — сказал родственник.
— Что давно пора, — поправил его Колчерукий и обратился к хозяину: — Ради наших детей я землю грызть готов, пусть будет по-твоему, аминь!
И он, запрокинув голову, выпил литровый рог, не отнимая его ото рта, все дальше и дальше запрокидываясь, под общее, хоровое, помогающее пить «уро, уро, уро, у-ро-о...»
А потом грянул застольную, а родственник, говорят, настороженно ждал, как он пройдет то место, где можно импровизировать. И когда Колчерукий спел:
О райда сиуа райда, эй,
О героях, идущих в огонь... —
родственник несколько мгновений стоял, со всех сторон осмысливая сказанное, и наконец, уяснив, что он никак не похож на героя, идущего в огонь, окончательно успокоился и сам присоединился к поющим.
Осенью мы сняли богатый урожай со своего участка и вернулись в город с кукурузой, тыквами, орехами и несметным количеством сухофруктов. Кроме того, мы заготовили около двадцати бутылок бекмеза, фруктового меда, в данном случае яблочного.
Дело в том, что по договоренности с бригадиром мы должны были собрать яблоки с одной старой яблони, с тем чтобы половину урожая отдать колхозу, а половину себе.
В колхозе не хватало рабочих рук, просто некому было собирать яблоки, потому что все работали на основных культурах: чае, табаке, тунге.
Получив разрешение на сбор яблок, мама в свою очередь договорилась с тремя бойцами рабочего батальона, стоявшего недалеко от деревни, что они нам помогут собрать, перетолочь и выварить из яблок бекмез, за что они получали половину нашего урожая.
Через неделю операция была блестяще завершена, мы получили двадцать бутылок тяжелого золотистого бекмеза (чистый доход), заменившего нам сахар на всю следующую зиму.
Таким образом, дав великолепный урок коммерческой изворотливости, мы покинули колхоз, и голос Колчерукого остался далеко позади.
И вот уже много лет спустя, проездом на охоту, я снова очутился в этой деревне.
В ожидании попутной машины я стоял у правления колхоза под тенью все той же шелковицы. Я смотрел на здание пустующей школы, на дворик, покрытый сочной травой, словно это была трава забвения, на эвкалиптовые деревья, которые мы когда-то сажали, на старый турничок, к которому мы бежали каждую перемену, и с традиционной грустью вдыхал аромат тех лет.
Редкие прохожие, по деревенскому обычаю всех краев, здоровались со мной, но ни они меня, ни я их не узнавал. Какая-то девушка вышла из правления колхоза с двумя графинами, подошла к колодцу и, лениво раскрутив ворот, набрала воды, медленно вытянула ведро и стала набирать воду в графины, поставленные на деревянную колоду. Она набирала воду сразу в оба графина, одновременно поливая их водой, как бы любуясь избытком прохлады. Выплеснула на траву остаток воды и, взяв мокрые графины, лениво пошла в сторону правления.
Когда она поднялась по ступенькам и вошла в дверь, я услышал, как оттуда навстречу ей выплеснулись голоса людей и снова все замолкло. Мне показалось, что все это уже когда-то было.
Какой-то парень на ржаво-скрипящем велосипеде проехал мимо меня, но потом, развернувшись с тугой раздумчивостью, подъехал ко мне и попросил закурить.
К багажнику велосипеда были приторочены две буханки. Я дал ему закурить и спросил у него, не знает ли он Яшку, внука Колчерукого.
— А как же, — ответил он, — Яшка — почтальон. Стой здесь, он скоро должен проехать на мотоцикле...
Парень, крепко, как пахарь за плуг, взявшись за руль, оттолкнулся и, обильно дымя сигаретой, повел дальше свой упирающийся, жалобно скрежещущий велосипед. Казалось, и жаркая погода, и этот несмазанный велосипед, и даже две буханки хлеба, притороченные к багажнику, входили в условие какого-то неведомого пари, которое он собирался во что бы то ни стало выиграть.
Я стал всматриваться в дорогу. В самом деле, вскоре я услышал треск мотоцикла. Конечно, я узнал его только потому, что ожидал. На своем легком мотоцикле он выглядел как Гулливер на детском велосипеде.
— Яшка! — крикнул я.
Он посмотрел в мою сторону, и мотоцикл испуганно остановился. В следующее мгновение он его, по-моему, слегка придавил к земле, и мотоцикл вовсе заглох.
Яшка выкатил его из-под себя, мы свернули с улицы и минут через пятнадцать лежали в тенистых зарослях папоротника.
Большой, дородный, с ленивой улыбкой на лице, он лежал рядом со мной, все еще похожий на того Яшку, который сидел на лошади за дедом и рассеянно смотрел по сторонам. До недавнего времени, оказывается, он был бригадиром, но в чем-то провинился, и его теперь назначили почтальоном. Он мне об этом рассказал все с той же улыбкой. Еще в школьные годы было видно, что тщеславие не его слабость.
Кажется, дед его все запасы родовой ярости истратил сам, так что на Яшку ничего не оставалось, а может, он и истратил их на себя, чтобы Яшке просто незачем было приходить в ярость. Какая разница — бригадир так бригадир, почтальон так почтальон. Только, пожалуй, голос его такой же густой и сильный, как у деда, правда, без тех клокочущих переливов. Я, конечно, спросил его про деда.
— Как, ты ничего не слыхал? — удивился Яшка и посмотрел на меня своими большими круглыми глазами.
— А что? — спросил я.
— Все знают его историю, а где ты был?
— Я был в Москве, — сказал я.
— А, значит, до Москвы не дошло, — протянул Яшка с уважением к самому расстоянию от Абхазии до Москвы: раз уж такая история туда не дошла, значит, до Москвы ехать и ехать.
Яшка огреб и подмял под себя свежие кусты папоротника, поудобней подложил под голову сумку и рассказал мне последнее приключение своего неугомонного деда. Потом я эту историю слышал еще несколько раз от других, но в первый раз ее услышал от Яшки.
Я еще мысленно любовался последним могучим всплеском фантазии Колчерукого, когда вдруг...
— Жужуна, Жужуна! — закричал он без всякого перехода, даже не приподнявшись.
— Ты чего? — отозвался откуда-то девичий голос.
Я приподнялся и посмотрел по сторонам. За зарослями папоротника виднелась небольшая буковая рощица. В просветах между деревьями угадывалась изгородь и за нею кукуруза. Голос шел откуда-то оттуда.
— Письмо, Жужуна, письмо! — снова крикнул Яшка и подмигнул мне.
— Нарочно? — спросил я.
Яшка радостно кивнул головой и стал прислушиваться. Примолкшие было кузнечики снова стали осторожно перетикиваться.
— Абманчи-ик! — наконец раздался голос девушки, и я почувствовал, что манок почтальона уже поднял олененка.
— Быстрей, Жужуна, уеду, Жужуна! — восторженно откликнулся Яшка, пьянея не то от собственного голоса, не то от имени девушки.
Я понял, что мне пора уходить, и стал с ним прощаться. Продолжая прислушиваться, Яшка уговаривал меня остаться на ночь, но я отказался. И потому, что спешил, и потому, что оскорбил бы этим наших, к которым я так и не зашел. Я знал, что, если остаться здесь на ночь, никакой охоты не получится, потому что придется еще два дня приходить в себя.
Выбираясь по тропинке на улицу, я еще раз услышал голос девушки, теперь он мне показался отчетливей.
...— От кого, тогда приду-у! — кричала она.
...— Приходи, тогда скажу, Жужуна, Жужуна! — призывно прозвучало в жарком августовском воздухе в последний раз, и я с какой-то смутной тоской, в просторечии именуемой завистью, выбрался на пустынную проселочную улицу.
По крайней мере, подумал я, все-таки традиции Колчерукого не умирают. Через полчаса я уехал дальше и с тех пор там не бывал. Все-таки я надеюсь как-нибудь выбраться к нашим, хотя бы для того, чтобы узнать, до чего Яшка докричался там со своей Жужуной.
Перескажу последнее приключение Колчерукого так, как оно у меня улеглось в голове. Колчерукий, говорят, благополучно дождался конца войны, дождался сына и прекрасно жил до последнего времени. Но с год назад пришел ему срок умирать, и уже по-настоящему.
В тот день, говорят, он, как обычно, лежал на веранде своего дома и смотрел во двор, где паслась его лошадь. В это время приехал к нему на лошади Мустафа. Он спешился и взошел на веранду. Ему вынесли стул, и он уселся рядом с Колчеруким. Как обычно, они вспоминали о прошлом. Колчерукий мгновеньями не то впадал в забытье, не то засыпал, но каждый раз, приходя в себя, он говорил с того места, на котором остановился.
— Так ты в самом деле покидаешь нас? — говорят, спросил Мустафа, зорко вглядываясь в своего друга и соперника.
— В самом деле, — ответил Колчерукий, — теперь мне тамошних лошадей купать в тамошних реках...
— Все там будем, — вежливо вздохнул Мустафа, — да не думал, что ты первый...
— Ты, бывало, и на скачках не думал, что я буду первым, — отчетливо произнес Колчерукий, так, что родственники, дежурившие возле него, все слышали и даже слегка засмеялись, придерживая свой смех ладонями, потому что смех возле умирающего, даже если этот умирающий Колчерукий, не слишком уместен.
Обидно стало Мустафе, да спорить неприлично, потому что человек умирает. Но если умирающий смеется над живущим, это как-то особенно обидно, потому что, раз умирающий над тобой смеется, значит, ты как бы оказался в еще более бедственном или жалком положении, чем он, а уж куда хуже.
Спорить, конечно, неприлично, а рассказать кое-что можно. И он рассказал.
— Раз уж ты уходишь в такую дорогу, я тебе должен кое-что сказать, — промолвил Мустафа, наклоняясь над Колчеруким.
— Если должен, скажи, — ответил Колчерукий, потому что смотрел во двор, где паслась его лошадь. В оставшееся время ему было интересней всего смотреть на свою лошадь.
— Не взыщи, Колчерукий, но тогда это я позвонил в колхоз, что ты умер, — сказал Мустафа, как бы скорбя, что обстоятельства не позволяют и теперь пустить этот ложный слух и что он, Мустафа, жалеет об этом, как истинный друг.
— Как же ты, когда говорили по-русски? — удивился Колчерукий и посмотрел на него. Мустафа русского языка не знал и был, несмотря на свой великий хозяйский ум, до того безграмотный, что вынужден был изобрести свой алфавит или, во всяком случае, ввести в личное употребление своеобразные иероглифы, при помощи которых он отмечал своих должников, а также хозяйственные счета, основанные на сложных, многоступенчатых обменных операциях. Вот почему Колчерукий удивился, что он говорил по телефону, да еще по-русски.
— Через городского племянника, сам я рядом стоял, — объяснил Мустафа. — Раз тебя вылечили, я решил пошутить, да и машину без этого кто бы прислал? — добавил Мустафа, напоминая о трудностях того далекого времени.
Говорят, Колчерукий закрыл глаза и долго молчал. Но потом он медленно открыл их и сказал, не глядя на Мустафу:
— Теперь я вижу, что ты лучший лошадник, чем я.
— Так получается, — скромно признался Мустафа и оглядел тех, кто дежурил возле умирающего.
Но тут близкие не выдержали и стали всхлипывать, потому что Колчерукий первый раз в жизни признал себя побежденным, и это было больше похоже на его смерть, чем сама предстоящая смерть.
Колчерукий заставил их замолкнуть и, кивнув в сторону лошадей, сказал:
— Напоите, лошади пить хотят.
Одна из девушек взяла ведра и пошла за водой. Девушка принесла родниковой воды и поставила ведра посреди двора. Лошадь Колчерукого подошла к ведру и стала пить, а лошадь Мустафы повернула голову и потянула поводья. Девушка отвязала ее и, держа за поводья, стояла рядом, пока она пила воду. Лошади, вытянув шеи, тихо пили воду, и Колчерукий с удовольствием следил за ними, и кадык на его горле двигался так, словно он сам пил воду.
— Мустафа, — сказал он наконец, обернувшись к другу, — теперь я признаю, что ты был лучшим лошадником, но ты знаешь, что и я любил лошадей и кое-что в них понимал?
— А как же, кто этого не знает? — великодушно воскликнул Мустафа и оглядел всех, кто был на веранде.
— На днях я умру, — продолжал Колчерукий, — гроб мой будет стоять там, где стоят пустые ведра. После того как меня оплачут, я прошу тебя, сделай одно...
— Что сделать? — спросил Мустафа и, цыкнув на близких, потому что они снова пытались всплакнуть, наклонился к нему. Было похоже, что Колчерукий передает ему свою последнюю волю.
— Я прошу тебя трижды перепрыгнуть через мой гроб. Перед тем как закроют крышку, я хочу услышать над собой лошадиный дух. Ты это сделаешь?
— Сделаю, если наши обычаи не видят в том греха, — обещал Мустафа.
— Думаю, не видят, — сказал Колчерукий, помедлив, и закрыл глаза – то ли уснул, то ли впал в забытье. Мустафа встал и тихо спустился с веранды. Он уехал, раздумывая над последней волей умирающего.
Вечером по этому поводу Мустафа собрал старейшин села и, угостив их, рассказал о просьбе Колчерукого. Старейшины посоветовались между собой и решили:
— Прыгай, если покойник так хочет, потому что ты лучший лошадник.
— Он сам это признал, — вставил Мустафа.
— А греха в том нет, потому что лошадь мяса не ест — у нее чистое дыхание, — заключили они.
В эту ночь Колчерукий узнал о решении старейшин и, говорят, остался доволен. А через два дня он умер.
Снова послали горевестников по соседним селам, как когда-то во время войны. Некоторые весть о его смерти встретили с недоверием, а родственник, что приволок когда-то телку, даже сказал, что, мол, не мешало бы его проткнуть хотя бы наконечником посоха, чтобы убедиться, окончательно он умер или опять морочит голову.
— Проткнуть не надо, — терпеливо отвечал горевестник, — потому что через него будет прыгать лошадник Мустафа. Так покойник захотел, когда был жив.
— Ну, тогда можно ехать, — успокоился родственник, — потому что живой Колчерукий не даст через себя прыгать.
На похороны, говорят, собралось народу даже больше, чем в тот раз, когда никто не сомневался, что он умер. Многих привлекла возможность посмотреть на эти скачки через гроб или похороны с препятствием. Все знали о великом соперничестве друзей. Говорили, что Колчерукий, хоть он и мертвый, но дела так не оставит.
Потом некоторые утверждали, что сами видели, как Мустафа тренировался у себя во дворе, прыгая на своей лошади через корыто, поставленное на стулья. Но Мустафа с яростью, достойной самого Колчерукого, отрицал, что он прыгал через корыто, поставленное на стулья. Он говорил, что лошадь его свободно перемахивает через ворота, так что Колчерукий его не достал бы, даже если б во время прыжка высунул свою знаменитую руку.
И вот на четвертый день после смерти, когда все окончательно попрощались со своим родственником и односельчанином, Мустафа встал у гроба, дожидаясь своего часа, скорбный и вместе с тем нетерпеливый.
Дождавшись, он произнес короткую речь, полную траурного величия. Он изложил героическую жизнь Шаабана Ларба, по прозвищу Колчерукий, от лошади к лошади, вплоть до последней воли. Вкратце, для сведения молодежи, как он сказал, Мустафа напомнил подвиг с уводом жеребца, когда Колчерукий не побоялся прыгать с обрыва, мимоходом дав знать, что, если б побоялся, было бы еще хуже. Он сказал, что снова напоминает об этом не для того, чтобы упростить подвиг Колчерукого, а для того, чтобы молодежь лишний раз убедилась в преимуществе смелых решений.
И тут, согласно желанию покойника, а также своему желанию, он вновь громогласно обратился к присутствующим старцам и снова спросил, нет ли в прыганье через гроб греха.
— Греха нет, — ответили старцы, — потому что лошадь мяса не ест — у нее чистое дыхание.
После этого Мустафа отошел к коновязи, отвязал свою лошадь, вскочил на нее и, взмахнув камчой, ринулся сквозь коридор толпы к гробу.
Пока он отходил к коновязи, с той стороны гроба убрали все лишнее и отодвинули людей, чтобы лошадь на них не наскочила. Кто-то предложил прикрыть покойника плащ-палаткой, чтобы земля из-под копыт не сыпалась на него. Но один из старцев сказал, что в том тоже греха нет, потому что покойник и так будет лежать в земле.
И вот, говорят, лошадь Мустафы доскакала до гроба и вдруг остановилась как вкопанная. Мустафа вскрикнул и огрел ее с обеих сторон камчой. Лошадь только крутила головой, скалилась, но прыгать никак не хотела.
Тогда Мустафа повернул ее на месте, галопом проскакал назад, слез, почему-то проверил подпруги и снова, как ястреб, ринулся на гроб. Но лошадь остановилась, и, сколько ни хлестал ее Мустафа, она так и не прыгнула, хотя и вставала на дыбы.
С минуту в напряженной тишине раздавалось только щелканье камчи и усердное сопенье Мустафы.
И тут, говорят, кто-то из стариков промолвил:
— Сдается мне, что лошадь через покойника не прыгает.
— Ну да, — вспомнил другой старец, — подобно тому, как хорошая собака не укусит хозяина, хорошая лошадь через покойника не прыгнет.
— Слезай, Мустафа, — крикнул кто-то из колхозников, — Колчерукий доказал тебе, что он лучше знает лошадей.
Тут, говорят, Мустафа повернул свою лошадь и, расталкивая толпу, молча выехал со двора. И тогда среди провожающих раздался такой взрыв хохота, который не то что на похоронах, на свадьбе не услышишь.
Хохот был такой, что секретарь сельсовета, услышав его в сельсовете, говорят, выронил печать и воскликнул:
— Клянусь честью, если Колчерукий в последний момент не выскочил из гроба!
Весело хоронили Колчерукого. Его загробная шутка на следующий день стала достоянием чуть ли не всей Абхазии. Вечером Мустафу все же уговорили прийти на поминальный ужин, потому что хотя прыгать через покойника не грех, но таить на покойника обиду все же считается грехом.
Когда умирает старый человек, в наших краях поминки проходят оживленно. Люди пьют вино и рассказывают друг другу веселые истории. Обычай не разрешает только напиваться до непристойности и петь песни. Хотя по ошибке кто-нибудь иногда и затянет застольную, но его останавливают, и он смущенно замолкает.
Когда умирает старый человек, мне кажется, вполне уместны и веселые поминки, и пышный обряд. Человек завершил свой человеческий путь, и, если он умер в старости, дожив, как у нас говорят, до своего срока, значит, живым можно праздновать победу человека над судьбой.
А пышный обряд, если его не доводить до глупости, тоже возник не на пустом месте. Он говорит: свершилось нечто громадное — умер человек, и, если он был хорошим человеком, это отметят и запомнят многие. И кто же достоин человеческой памяти, если не Колчерукий, который всю жизнь украшал землю весельем и трудом, а в последние десять лет, можно сказать, добрался и до своей могилы и ее заставил плодоносить, собирая с нее, как говорят, неплохой урожай персиков.
Согласитесь, что далеко не всякому удается собрать урожай персиков с собственной могилы, хотя многие и пытаются, но для этого им не хватает ни широты, ни отваги Колчерукого.
И да будет пухом ему земля, что, вероятно, вполне возможно, учитывая, что место ему выбрали хорошее, сухое, о чем он сам любил поговорить при жизни.
Авторитет
Георгий Андреевич был, как говорится, широко известен в узких кругах физиков. Правда, всей Москвы.
На праздничные майские каникулы он приехал к себе на дачу вместе с женой и младшим сыном, чтобы отдохнуть от городской суеты и всласть поработать несколько дней в тишине.
Весь дачный поселок был послевоенным подарком Сталина советским физикам, создавшим атомную бомбу. Однако с тех давних пор дачи сильно одряхлели, ремонтировать их не хватало средств. За последние годы, даже еще до перестройки, государство потеряло интерес к физикам: мавр сделал свое дело... Тем более старшее поколение физиков, создававшее эту бомбу, в основном уже перемерло.
На третий день праздников труба в ванной дала течь. Георгий Андреевич пошел в контору. Он знал, что оттуда можно было вызвать одного из двух сантехников. Но работник конторы скорбно заявил ему, что сантехники сами вышли из строя.
— Что с Женей? — спросил Георгий Андреевич.
— Руку сломал, — ответил конторский работник.
— А Сережа?
— Голову разбил. Только что его увезли на машине, — был мрачный ответ.
Георгий Андреевич вернулся на дачу несолоно хлебавши. «Трудно жить в России, — думал он. — Прежде чем починить трубу, надо починить слесаря. Нам многодневные праздники ни к чему. Работа невольно заставляет нашего человека делать некоторые паузы в выпивке. Праздничные дни — пьянство в чистом виде».
Однако он не дал себе испортить настроение этой неудачей, а сел работать. Работа — единственное, в чем он еще не чувствовал приближение старости. И тем более было обидно, когда любимый ученик сказал ему об отзыве о нем одного известного физика. «Каким ярким ученым был Георгий Андреевич! – вздохнул якобы тот. — Как жалко, что он замолк».
«Откуда он взял, что я замолк?» — с горьким негодованием думал Георгий Андреевич. За последние два года четыре его серьезные работы были опубликованы в научных журналах. Да тот просто журналы эти не видел! Физики, — во всяком случае, те, что остались в России, — перестали интересоваться работами друг друга. Это тоже было знаком времени. На свои последние публикации он получал восхищенные отклики от некоторых иностранных коллег.
Однако ему было шестьдесят пять лет, и он действительно чувствовал первые признаки старости. Только не в работе. Так он думал. Но, например, процесс еды перестал приносить удовольствие, и он ел не то чтобы насильно, но с некоторым тихим раздражением примиряясь с необходимостью перемалывать пищу. Сколько можно!
Утреннее бритье тоже стало раздражать его. «Боже мой, — думал он, включая электробритву, — сколько можно бриться! Всю жизнь каждое утро бриться!» Некоторые его коллеги давно завели бороды, якобы подчиняясь моде возвращения к национальным корням. Он сильно подозревал, что им просто надоело бриться. Сам он никак не хотел заводить бороды. Они при помощи бороды маскируют собственную старость, думал он.
Третьим признаком старости он считал то, что на ночь стал проверять, хорошо ли закрыты дверные запоры. Раньше он никогда об этом не думал. Правда, этот признак старости он мог не засчитывать себе или, по крайней мере, смягчить тем, что, по вполне проверенным слухам, многие дачи их академического поселка ограбили.
Слава Богу, обошлось без убийств. Правда, одного опустившегося физика, пьяницу, воры избили. Он случайно во время грабежа оказался на даче, но был так беден, что из дачи буквально нечего было вынести. Все, что можно было вынести и продать, он уже сам вынес и продал. Воры обиделись и, разбудив его, избили за свои напрасные труды. Тем более у кровати его стояла пустая бутылка. Как будто он один любит выпить!
Но Георгий Андреевич почему-то чувствовал, что его повышенный интерес к замкам и запорам перед тем, как лечь спать, связан не с участившимися грабежами вообще, а с философским старческим отношением к собственности. Тем более он хорошо помнил слова Гете о том, что в молодости мы все либералы, потому что нам нечего терять, а в старости делаемся консерваторами, потому что хотим, чтобы нажитое нами осталось именно нашим детям.
Ничего особенного нажито не было, хотя он был лауреатом нескольких международных премий. Но деньги, на которые он никогда не обращал внимания, как-то незаметно испарились, хотя это было не совсем так.
Оба его старших сына были биологами, и когда они женились, он обоим купил квартиры. Они рано женились. Это было еще в советское время, и один из них, которому он дал деньги на квартиру, просил его, чтобы он, пользуясь своим авторитетом, помог вступить в какой-то кооператив. Но он наотрез отказался. Он презирал этот путь и никогда в жизни не умел и не хотел им пользоваться.
— Я же дал тебе деньги, — твердо ответил он сыну, — дальше действуй сам.
— Деньги — это далеко не главное, — ответил ему сын довольно нахально.
Впрочем, в те далекие, как теперь казалось, советские времена, вероятно, так оно и было.
Зато теперь деньги решали все. Оба его старших сына по контракту работали в Европе. Судя по всему, они были хорошо устроены и в Россию почти не приезжали. Беспокоиться об их судьбе не приходилось. Но он волновался о младшем сыне. Отчасти и это было признаком старости или следствием постарения.
Через пятнадцать лет после второго сына у него родился третий сын. Ему было сейчас двенадцать лет, и отец несколько тревожился, что может не успеть поставить его на ноги. А время настолько изменилось, что однажды сын ему сказал с горестным недоумением:
— Папа, почему мы такие нищие?
Вопросу сына он поразился как грому среди ясного неба.
— Какие мы нищие! — воскликнул он, не в силах сдержать раздражения. — Мы живем на уровне хорошей интеллигентной семьи!
Так оно и было на самом деле. Денег, по мнению отца, вполне хватало на жизнь, хотя, конечно, жизнь достаточно скромную. Но в школе у сына внезапно появилось много богатых друзей, которые хвастались своей модной одеждой, новейшей западной аппаратурой да и не по возрасту разбрасывались деньгами. И это шестиклассники!
Напрасно Георгий Андреевич объяснял сыну, что отцы этих детей скорее всего жулики, которые воспользовались темной экономической ситуацией в стране и нажились бесчестным путем. Он чувствовал, что слова его падают в пустоту.
И тогда он подумал, что грешен перед своими детьми: всю жизнь углубленный в науку, не уделял им внимания. Двое старших, слава Богу, без его участия стали вполне интеллигентными людьми и достаточно талантливыми биологами. Да иначе с ними не продлевали бы контракты с такой охотой! Западные фирмы с необыкновенной точностью выклевывали наших самых талантливых ученых! И ему, несмотря на его возраст, приходили выгодные предложения, но он их отклонял. Мы, — думал он о своем поколении, — так страстно мечтали о новых демократических временах, и если демократия пришла с такими чудовищными уродствами, мы ответственны за это». Уезжать казалось ему дезертирством...
Но дети ни при чем. Да, двое его старших сыновей стали на ноги. Но что будет с младшим? Он увлекается спортом и почти ничего не читает. Неужели это свойство поколения, неужели книга перестала быть тем, чем она уже была в России в течение двух столетий для образованных людей? Может быть, это всемирный процесс? Хотя такие признаки есть, но он отказывался в них верить. Не может быть, чтобы книга – самый уютный, самый удобный способ общения с мыслителем и художником – ушла из жизни!
Он сам стал читать сыну. С каким увлечением он читал ему пушкинский рассказ «Выстрел». Он сам чувствовал, что никогда в жизни вслух не читал с таким волнением и с такой выразительностью. Он читал ему минут пятнадцать, и сын как-то притих. «Достал! Достал!» — ликовал отец про себя: сын подхвачен прозрачной волной пушкинского вдохновения! Однако, воспользовавшись первой же паузой, сын встал со стула и очень вежливо сказал:
— Папа, извини, но это для меня слишком рано.
И вышел из кабинета. Отец был сильно смущен. В словах сына ему послышалось сожаление по поводу его напрасных стараний. Но не может быть, чтобы ясный Пушкин до сына не доходил!
Все-таки он прочел ему несколько книжек, в том числе «Капитанскую дочку». Нельзя сказать, чтобы сын не понимал прочитанного. Формальный смысл он легко улавливал. Он не улавливал того очаровательного перемигивания многих смыслов, которое дает настоящий художественный текст и в который автор вовлекает благодарного читателя. Неужели телевизор и компьютерные игры победили? И тогда он решил пойти самым большим козырем, который у него был в запасе, — он решил прочесть ему «Хаджи-Мурата».
И действительно, «Хаджи-Мурат» несколько растормошил сына. Отец радовался, читая ему эту великую книгу, написанную не только гениально, но и с рекордной простотой. Он думал, что смерть Хаджи-Мурата потрясет сына, но ничего такого не случилось.
— Я так и знал, — сказал сын, покидая его кабинет, как всегда после чтения, со сдержанным облегчением. Все-таки облегчение он сдерживал. И на том спасибо!
Но ведь не был же сын бесчувственным! Отец несколько раз, случайно войдя в столовую с телевизором, видел на глазах у сына слезы. Ясно было, что сын только что смотрел какой-то сентиментальный фильм. Как втолковать ему условия игры книги, ему, так самозабвенно усвоившему жалкие условия игры телевизора?
И нельзя же все время читать ему вслух. Ему уже двенадцать лет. «Боже мой, — думал Георгий Андреевич, — в этом возрасте меня невозможно было оторвать от книги!» Более того, он был уверен, что его успехи в физике каким-то таинственным образом связаны с прочитанными и любимыми книгами. Занимаясь физикой, он заряжал себя азартом вдохновения, который охватывал его при чтении. А ведь счастье этого состояния он испытал до физики. Книга была первична.
Нет, надо приучить его читать самого. Но как сын этого не хотел, как морщился, как пытался любым способом увильнуть от этой постылой обязанности!
Здесь, на даче, он с сыном играл в бадминтон. И сын у него насмешливо выигрывал каждый раз. Сын его был очень спортивен, впрочем, как и отец в юности. Отец в очках только работал или читал. Играя с сыном без очков, иногда он просто лупил ракеткой мимо волана. В таких случаях сын безжалостно смеялся. Но отца это почти не трогало. Он с нежностью вспоминал, как всего несколько лет назад он аккуратно и плавно отбивал сыну волан, чтобы тому было легче его принять.
Как летит время! А сын требовал от отца, чтобы тот с ним играл каждый день. Просто у него сейчас не было другого партнера. Из-за насмешек сына во время игры отец вдруг понял, что, в сущности, он, хотя и физик высокого класса, никаким авторитетом у сына не пользуется. Нужно завоевать авторитет. Но как это сделать? Очень просто. Спорт — единственное, что увлекает сына кроме телевизора и компьютерных игр. Он должен через спорт завоевать авторитет у сына. Он должен переиграть его в бадминтон.
На следующий день, когда сын предложил поиграть, он сказал ему:
— Если я у тебя выиграю, будешь два часа читать книгу!
— Ты у меня выиграешь... — презрительно ответил сын. — Папа, у тебя крыша поехала!
— Но ты согласен на условия?
— Конечно! Пошли!
— Только дай я очки надену!
— Хоть бинокль!
Отец зашел в кабинет и взял старые запасные очки. Все-таки рисковать очками, в которых он обычно работал, не решился. Он надел их и стал мотать головой, чтобы посмотреть, как они держатся. К его приятному удивлению, очки ни разу не соскочили. Инструмент, помогавший в работе его стареющим глазам, как бы по-товарищески обещал помогать ему и в игре.
Он взял ракетку и вышел вслед за сыном на дачный двор. Было на редкость тепло. Поздняя весна быстро набирала силу. Из соседних дворов доносился запах цветущих яблонь. У самого дома, обработанная женой, цвела большая грядка цветов. Синели гроздочки гиацинтов, цвели нарциссы и примулы. Уже выпушились березы, словно излучая тепло, рыжели стволы сосен, и только сумрачные ели оставались верны своей траурной зелени.
На лужайке высыпало множество лиловых незабудок. «Какая глазастая свежесть любопытства к жизни! Если бы их свежесть любопытства к жизни соединить с моим опытом, — неожиданно подумал он, — был бы толк в науке. Но это невозможно». И вдруг ему захотелось улечься на эти незабудки и, раскинув руки, лежать, ни о чем не думая. Но тогда уж под ними, насмешливо поправил он себя. Нет, сверху, встряхнулся он духом, лежать и думать только о физике.
Между соснами, елями и березами была небольшая площадка, на которой они обычно играли. Они играли без сетки, игровое пространство не было очерчено, так что потерянную подачу иногда приходилось определять на глазок. Кроме того, на площадке были рытвины и несколько трухлявых пеньков, которые иногда мешали отбить волан. Отец, проявляя благородство, прощал сыну промахи, вызванные неровностью площадки, и сын туговато, но следовал его примеру. Отец, решив во что бы то ни стало выиграть у сына, внутренне сосредоточился, напружинился, хотя внешне держался равнодушно. Это, конечно, была боевая хитрость. Но не аморально ли хитрить, думал он, с трудом отбивая подачи сына. Тот почти все время умудрялся гасить.
Нет, успокоил он себя, если хитрость служит добру, она оправданна. Сам Христос хитрил, когда на коварный вопрос фарисеев ответил: кесарю кесарево, Богу Богово. Христос, по соображениям Георгия Андреевича, исходил из того, что если кесарю не платить кесарево, то для народа Иудеи это обернется еще большим, безвыходным злом. Конформизм народа оправдан, если другое решение грозит непременной кровью. Свою-то кровь Христос не пожалел. Но свою!
Когда несколько лет назад сын только научился плавать, он панически боялся глубины. И тогда, чтобы приучить сына к глубине, Георгий Андреевич пустился на хитрость. Он немного отплыл от берега и позвал сына к себе, вытащив руки из воды и подняв их над собой в знак того, что он стоит на дне. На самом деле он до дна не доставал, но, сильно работая одними ногами, держался на плаву. Сын клюнул на эту удочку, поплыл к нему и так постепенно приучился плавать на глубине.
...То и дело слышалось шлепанье ракеткой по волану. Хотя Георгий Андреевич весь был сосредоточен на игре, в голове его мелькали мысли, часто никакого отношения к игре не имеющие.
...Физик, который не следит за работами своих коллег, не может считаться профессионалом... Удар!
...Если бы Пушкин прожил еще хотя бы десять лет, вероятно, история России могла быть совершенно другой... Удар!
...Опять забыл ответить на чудное письмо физика из Вены! Какой стыд!.. Удар!
...Вся русская культура расположена между двумя фразами. Пушкинской: подите прочь, какое дело поэту мирному до вас! И толстовской: не могу молчать! Пожалуй, в пушкинской фразе более далеко идущая мудрость... Удар!
...Задыхаюсь! Задыхаюсь! Нельзя было почти всю жизнь работать по четырнадцать часов! А в застолье по четырнадцать рюмок можно было пить?! Удар!
...Сейчас много пишут о реформах Столыпина. И это хорошо. Но почему молчат о реформах Витте? Фамилия не та? Некрасиво!.. Удар!
...Выражение «тихий Дон», кажется, впервые упоминается у Пушкина в «Кавказском пленнике»... Если бы не перечитывал сыну, никогда бы не вспомнил... Удар!
...Религиозный взгляд на мир научно корректней атеистического. Нужен смелый ум, чтобы иногда сказать: это не нашего ума дело!.. Удар!
...Обширные пространства России всегда вызывали в правителях тайную агорафобию. Отсюда чувство психической неустойчивости, вечное желание нащупать твердый край, принимать крайнее и потому невзвешенное решение... Удар!
...Если предстоит конец книжной цивилизации, это удесятерит агрессивность человечества. Ничто не может заменить натурального Толстого и натурального Шекспира... Удар!
...Знание о жизни другого народа смягчает этот народ по отношению к нему. В темноте все опасны друг другу... Удар!
...Политика! Как говорил Ходжа Насреддин: не вижу лиц, отмеченных печатью мудрости... Удар!
...Первый признак глупца: количество слов не соответствует количеству информации... Удар!
...Какой маразм! Пригласил домой иностранного физика и, называя ему адрес, забыл указать корпус дома! Проклятый телефон! Но он, молодец, догадался сам найти! Маразм... Хотя в момент звонка я был весь в работе... Удар!
...Не смерть страшна, а страшно недостойно встретить ее... Удар!
...Человек краснеет и делает шаг к жизни. Человек бледнеет и делает шаг к смерти!.. Удар!
...Подставленная щека воспитывает бьющую руку... Сомнительно. Односторонность подставленной щеки... Удар!
Они обычно играли до двадцати пяти: кто первым набрал двадцать пять очков, тот и выиграл. Сын, не замечая необычайной сосредоточенности отца, пропустил достаточно много ударов, уверенный, что отец случайно вырвался вперед. Но при счете десять — пять в пользу отца он как бы очнулся.
— Ну, теперь ты у меня ни одного мяча не выиграешь! — крикнул он. После чего яростно скинул рубаху и отбросил ее. Стройный, ладный, худой, поигрывая юными мускулами, он сейчас стоял перед ним в черных спортивных брюках и белых кедах, незавязанные шнурки которых опасно болтались. Отец предупредил его относительно шнурков, но он только резко махнул рукой и с горящими глазами приготовился к подаче.
Шквал сильных ударов посыпался на отца. Но почти все удары, сам удивляясь себе, отец изворачивался брать и посылать обратно. Иногда отец забывался, срабатывала давняя привычка играть с сыном, начинающим игроком, и тогда он мягко и высоко отбивал волан. Сын гасил с необычайной резкостью, и отец пропускал удар или, что выглядело особенно глупо, неожиданно ловил волан рукой, не успев рвануться в сторону и подставить ракетку.
Однако чаще всего, продолжая сам себе удивляться, он дотягивался до очень трудных подач и отбивал их. После того как он отбивал особенно трудные подачи, он замечал в глазах у сына как бы комически-заторможенное уважение. Однако сын порядочно загнал его своими подачами. Сердце колотилось во всю грудную клетку, он был весь мокрый от пота. Но чем трудней ему было, с тем большей самоотдачей он шел к победе. В каждый удар он вкладывал все силы, как будто удар этот был последним и самым решительным.
А сын, несмотря на свои яростные усилия, в отличие от отца, оставался совершенно свежим и ровно дышал. Задыхающемуся отцу это казалось чудом. Но игра приближалась к победному концу, и сын стал нервничать. После неудачного удара он в бешенстве швырнул свою ракетку.
— Будешь нервничать, будешь хуже играть, — задыхаясь, предупредил его отец.
— Эта ракетка соскальзывает с руки, — крикнул сын, — я пойду возьму запасную.
И побежал домой. Отцу показалось, что эта передышка в две-три минуты спасла его. Сейчас, когда игра остановилась и он осознал свою усталость, ему подумалось, что еще несколько мгновений такого напряжения — и он рухнул бы наземь.
Отец слегка отдышался. Сын прибежал с новой ракеткой, и они продолжили игру. И хотя эта ракетка была ничуть не лучше прежней, сын, видимо, успокоился и стал бить еще точней и свирепей. Сын бил ракеткой по волану с такой размашистой силой, словно стремился не просто выиграть у отца, а вытолкнуть его из жизни. Это пародийно напоминало отцу то, что он часто читал в глазах у некоторых молодых физиков: когда же вы наконец сдохнете! Авторитет таких ученых, как Георгий Андреевич, стоял поперек их завиральным идеям.
Сын опять загнал отца, но вдруг споткнулся, наступив на шнурок незавязанного кеда, и чуть не упал, однако, ловко сбалансировав, устоял на ногах.
— Завяжи шнурки, иначе не играю! — грозно крикнул ему отец. Он боялся, что сын опасно шлепнется на землю.
Сын занялся своими шнурками, а отец в это время старался отдышаться. Иначе от переутомления он сам мог грохнуться. Чтобы уберечь сына от падения, он остановил его, но именно потому и сам не рухнул, загнанный одышкой.
Через минуту игра продолжилась, и сын окончательно загнал отца, однако отец выиграл, на два очка опередив сына.
— Ну что, сынок, старый конь борозды не портит? – спросил он, обнимая его и целуя.
— Случайный выигрыш, — сказал сын и, не удержавшись, всхлипнул. Он уворачивался от отцовских поцелуев и одновременно прижимался к нему как к отцу, ища у него утешения. И отец вдруг почувствовал всем своим существом, что сын проникся к нему уважением.
— Ты играешь лучше меня, но у меня внимания больше, потому что меньше времени осталось, — сказал отец. Он сразу же пожалел о своем сентиментальном объяснении. Как-то само сорвалось. Впрочем, сын навряд ли его понял.
— Завтра я выиграю всухую, — сказал сын с вызовом, приходя в себя.
— Посмотрим, — ответил отец, — но сегодня ты два часа почитаешь.
— А что читать? — спросил сын.
— «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», — ответил отец, — начнем с этого. Ты ведь любишь юмор.
— Я эти фильмы двадцать раз смотрел по телевизору, — ответил сын.
— Это не фильмы, а книги прежде всего, — пояснил отец.
— Хорошо, — согласился сын, — но завтра я тебя разгромлю.
Это прозвучало как тайная угроза бойкота чтению.
Тут жена Георгия Андреевича позвала их обедать. Они сидели на кухне перед тарелками с пахучим, дымящимся борщом. Запах борща вдруг вызвал у Георгия Андреевича забытый аппетит. А может быть, воспоминание об аппетите.
— А наш отец еще ничего, — сказал сын матери с некоторым поощряющим удивлением, — но завтра я его расколошмачу.
После обеда сын послушно пошел читать в свою комнату. Георгий Андреевич чувствовал невероятную усталость. «Неужто вот так я его каждый день буду вынужден заставлять читать? — подумал он о предстоящем долгом лете. — Впрочем, — успокоил он себя, — будем считать, что это одновременно и борьба со старостью. Надо и завтра у него выиграть».
Мальчик и война
Мальчик был уже в постели, когда друг отца вместе со своим взрослым сыном пришел к ним в гости. Звали его дядя Аслан, а сына звали Валико.
Это были гости из Абхазии. Мальчик три года подряд вместе с отцом и матерью отдыхал в Гаграх. Они жили у дяди Аслана. И это были самые счастливые месяцы его жизни. Такое теплое солнце, такое теплое море и такие теплые люди. Они там жили в таком же большом доме, как здесь, в Москве. Но в отличие от Москвы, там люди жили совсем по-другому. Все соседи: абхазцы, грузины, русские, армяне — ходили друг к другу в гости, вместе пили вино и вместе отмечали всякие праздники.
Если кто-нибудь варил варенье, или пек торт, или готовил еще что-нибудь вкусное, он обязательно угощал соседей. Так у них было принято. В доме все друг друга знали, а на крыше была устроена особая площадка, каких не бывает в московских домах, где соседи собирались на праздничные вечера.
И вот сейчас в Абхазии идет страшная война и люди друг друга убивают. Чего они не поделили, мальчик никак не мог понять. Сейчас возбужденные голоса родителей и гостей раздавались из кухни.
— Ты, кажется, воевал? — спросил отец мальчика у Валико. Валико было лет двадцать пять, он был лихим таксистом.
— Да, — охотно согласился Валико. — Вот что со мной случилось. Когда мы ворвались в Гагры, я взял в плен двух грузинских гвардейцев. Отобрал оружие, веду на базу. А со мной рядом казак. Я вижу — эти гвардейцы сильно приуныли. Я им говорю:
— Ребята, с вами ничего не будет, вы пленные.
И вдруг один из них нагибается и вырывает из голенища сапога гранату. Я не успел опомниться, а автоматы у нас за плечами. Видно, отчаянный парень был, вроде меня. Одним словом, кидает гранату в меня, и они бегут. Граната ударила мне в грудь и отскочила. Слава Богу, на таком близком расстоянии она не взрывается сразу. Ей надо шесть секунд. Я прыгнул на казака, и мы вместе повалились на землю. Взрыв, но нам повезло. Осколки в нас не попали. Мне чуть-чуть царапнуло ногу. Вскакиваю и бегу за этими гвардейцами. Они, конечно, далеко убежать не успели. Забежал за угол, куда они повернули, и достал обоих автоматной очередью. Иду в их сторону и думаю, как это нам повезло, что гранатой нас не шарахнуло.
И вдруг вижу: двое, старик и молодой парень, выходят из дому, как раз в том месте, где лежат убитые гвардейцы. А на спине у них вот такие тюки. Перешагивают через мертвых гвардейцев и идут дальше. Я сразу понял, что это мародеры. Мы берем город, значит, наши мародеры.
— Бросьте тюки! — кричу им по-абхазски.
Молчат. Идут дальше.
— Бросьте тюки, а то стрелять буду! — кричу им еще раз.
Молодой оборачивается в мою сторону. А тюк за его спиной больше, чем он сам.
— Занимайся своим делом, — говорит он, и они идут дальше.
Я психанул. Мы здесь умираем, а они барахло собирают. Скинул свой автомат и дал им по ногам очередь. В старика не попал, а молодой упал. Я даже не стал к ним подходить. Надо было в бой идти. Одним словом, Гагры мы отбили.
Проходит дней пятнадцать. Я вообще забыл про этот случай. Живу в гостинице. Все наши бойцы жили в гостинице. В тот день мы отдыхали. Вдруг вбегает ко мне сосед с нижнего этажа и говорит:
— Приехали за тобой вооруженные ребята. Все с автоматами. Духовитый вид у них. Может, помощь нужна?
— Не надо, — говорю, — никакой помощи.
Я вспомнил того, молодого, которого я в ногу ранил. Что делать? А на мне вот эта же тужурка была, что сейчас. Взял в оба кармана по гранате и выхожу. Руки в карманах. Гранат не видно. Готов ко всему.
Вижу: метрах в двадцати от гостиницы стоит машина. А здесь, у гостиницы, четыре человека. Все с автоматами.
Я подхожу к ним не вынимая рук из карманов.
— Что надо?
— Ты стрелял в нашего брата? Вот он здесь в машине сидит.
— Да, стрелял, — говорю и рассказываю все, как было.
Рассказываю, как нас чуть не взорвали гвардейцы и как их брат вместе со стариком тюки тащил из дома. Рассказываю, а сам внимательно слежу за ними. Чуть кто за автомат, взорву всех и сам взорвусь.
И они немного растерялись. Никак не могут понять, почему я, невооруженный, не боюсь их. Стою, руки в карманах, а они с автоматами за плечами. И тогда старший из них говорит, кивая на машину:
— Подойдем туда. Можешь при нем повторить все, что ты здесь сказал?
— Конечно, — говорю, — пошли.
Я иду рядом с ним, но руки держу в карманах. Подошли к машине. Тот, кого я ранил в ногу, сидит в ней. Я его узнал. И я повторяю все, как было, а этот в машине морщится от злости и стыда. Окна в машине открыты.
— Правду он сказал? — спрашивает тот, что привел.
— Да, — соглашается тот, что в машине, и ругает в Бога, в душу мать своих родственников за то, что они его привезли сюда.
А у меня руки все еще в карманах.
— Что это у тебя в карманах? — наконец спрашивает тот, что привел меня к машине. Уже догадывается о чем-то, слишком близко стоит.
— Гранаты, — говорю, — не деньги же. Я воюю, а не граблю.
— Ты настоящий мужик, — говорит он, — мы к тебе больше ничего не имеем.
— Я к вам тоже ничего не имею, — отвечаю ему и иду вместе с ним назад, но руки все-таки держу в карманах.
Так мы и разошлись. Война. Бывают ужасные жестокости с обеих сторон. Но я, клянусь мамой, ни разу не выстрелил в безоружного человека. Эти двое не в счет. Я же психанул. Гранатой шарахнули в двух шагах.
— А почему ты не с автоматом вышел, а с гранатами? — спросил отец мальчика.
— Если бы я вышел с автоматом, — ответил Валико, — получилась бы бойня. А так они растерялись, не поняли, почему я их не боюсь. Я правильно рассчитал. Я был готов взорваться вместе с ними. И потому твердо и спокойно себя держал. Если бы они почувствовали мой мандраж, кто-нибудь скинул бы автомат. А так они растерялись, а потом было уже поздно.
— Ладно тебе хвастаться, — перебил его отец, — счастливая случайность тебя спасла и от гранаты гвардейца, и от родственников этого раненого. По теории вероятности, если два раза подряд повезло, очень мало шансов, что повезет в третий раз... Учти!.. А ты знаешь, что доктора Георгия убили?
Он явно обратился к отцу мальчика. У мальчика екнуло сердце. Он так хорошо помнил доктора Георгия. Тот жил в доме друга отца. После работы он выходил во двор и играл с соседями в нарды. Вокруг всегда толпились мужчины. Доктор Георгий громко шутил, и все покатывались от хохота.
Однажды доктор Георгий рассказал:
— Сегодня еду из больницы в автобусе. Вдруг одна пассажирка кричит: «Доктор Георгий, вас грабят!» Тут я почувствовал, что парень, стоявший рядом со мной, шарит у меня в кармане. Я поймал его руку и говорю: «Это не грабеж, это медицинское обследование». Автобус хохочет. Многие меня знают. Парень покраснел, как перец. Тут как раз остановка, и я разжал его руку. Он выпрыгнул из автобуса. Если вор способен краснеть, он еще может стать человеком.
— За что его убили? — спросил отец мальчика.
— Кто его знает, — ответил дядя Аслан. — Но он громко ругал и грузинских, и абхазских националистов. Я о случившемся узнал от нашей соседки. Тогда еще шли бои за Гагры, я места себе не находил, потому что не знал, мой сын жив или нет.
Двое вооруженных автоматами людей ночью вошли в наш дом и постучали в двери соседки. Она открыла.
— Нам нужен доктор Георгий, — сказали они, — он в вашем доме живет. Покажите его квартиру.
— Зачем вам доктор Георгий? — спросила она.
— У нас товарищ тяжело заболел, — сказал один из них, — нам нужен доктор Георгий.
— Зачем вам доктор Георгий, — ответила соседка, — у меня только что умер муж. Он был болен и не выдержал всего этого ужаса. От него осталось много всяких лекарств. Я вам их дам.
Ей сразу не понравились эти двое с автоматами.
— Нам не нужны ваши лекарства, — начиная раздражаться, угрожающим голосом сказал один из них, — нам нужен доктор Георгий. Он должен помочь нашему товарищу.
С каким-то плохим предчувствием, так она потом рассказывала, она поднялась на два этажа и показала на квартиру доктора. Сказать, что она не знает, где он живет, было бы слишком неправдоподобно для нашей кавказской жизни.
Показав им на квартиру доктора Георгия, она остановилась на лестнице, чтобы посмотреть, что они будут делать. Но тут один из них жестко приказал ей:
— Идите к себе. Больше вы нам не нужны.
И она пошла к себе. Ночь. В городе еще идут бои. Одинокая женщина. Испугалась. Через полчаса она услышала, что внизу завели машину, раздался шум мотора и стих. Она решила, что это, скорее всего, они увезли доктора. Доктор с самого начала войны успел отправить семью в Краснодар. Он оставался жить с тещей.
Соседка снова поднялась на этаж, где жил доктор, чтобы у тещи узнать, куда они отвезли его и как с ним обращались. Стучит, стучит в дверь, но никто ей не отвечает. Думает, может, испугалась, затаилась. Громко кричит: «Тамара! Тамара!» — чтобы та узнала ее голос. Но не было никакого ответа. И тут она поняла, что дело плохо. Эти двое с автоматами увезли доктора вместе с тещей. Если доктор им нужен был для больного, зачем им была нужна его теща, которая к медицине не имела никакого отношения? Она вернулась в свою квартиру.
На следующий день обо всем мне рассказала. А что я мог сделать? Спросить не у кого. Да и сам места себе не нахожу: не знаю, жив ли сын.
Но вот проходит дней пятнадцать. Бои вокруг Гагр затихли. Однажды стою возле дома и вижу: по улице едет знакомый капитан милиции. Увидев меня, остановил машину.
— Ты можешь признать доктора Георгия? — спрашивает, приоткрыв дверцу.
— Конечно, — говорю, — он же в нашем доме жил. А что с ним?
— Кажется, его убили, — отвечает капитан, — если это он. Поехали со мной. Скажешь, он это или не он.
Мы поехали на окраину города в парк. Там возле пригорка стоял экскаватор, а за пригорком валялись два трупа. Это был доктор Георгий и его теща. По их лицам уже ползали черви. Я узнал доктора по его старым туфлям со сбитыми каблуками.
— Это доктор Георгий и его теща, — сказал я.
Экскаваторщик уже вырыл яму.
— А почему не на кладбище похоронить? — спросил я.
— Столько трупов, мы с этим не справимся, — ответил капитан.
Он приказал экскаваторщику перенести ковшом трупы в яму.
— Не буду я переносить трупы, — заупрямился экскаваторщик, — у меня ковш провоняет.
Капитан стал ругаться с экскаваторщиком, угрожая ему арестом, но тот явно не хотел подчиняться. В городе бардак. Видно, капитан поймал какого-то случайного экскаваторщика.
Тут я подошел к экскаваторщику, вынул все деньги, которые у меня были, и молча сунул ему в карман. Там было около пятнадцати тысяч. Экскаваторщик молча включил мотор, перенес ковшом оба трупа в яму и завалил их землей.
Мальчик затаив дыхание слушал рассказ, доносящийся из кухни. Он никак не мог понять смысла этой подлой жестокости. Он пытался представить, что думал доктор Георгий, когда его вместе с тещей посадили в машину и повезли на окраину города. Ведь он, когда его вывели из дому вместе с тещей, не мог не догадаться, что его везут не к больному. Почему он не кричал? Может, боялся, что выскочат соседи и тогда и их ждет смерть?
В сознании мальчика внезапно рухнуло представление о разумности мира взрослых. Он так ясно слышал громкий смех доктора Георгия. И вот теперь его убили взрослые люди. Если бы они при этом ограбили дом доктора, это хотя бы что-то объясняло. Мародеры. Но они, судя по рассказу друга отца, ничего не взяли и больше в этот дом не заходили.
Мальчик был начитан для своих двенадцати лет. Из книг, которые он читал, получалось, что человек с древнейших времен становится все разумней и разумней. Он читал книжку о первобытных людях и понимал, что там взрослые наивны и просты, как дети. И это было смешно. И ему казалось, что люди с веками становятся все разумней и добрей. И теперь он вдруг в этом разуверился.
Уже гости ушли, родители легли спать, а он все думал и думал. Зачем становиться взрослым, зачем жить, думал он, если человек не делается добрей? Бессмысленно. Он мучительно искал доказательств того, что человек делается добрей. Но не находил. Впрочем, поздно ночью он додумался до одной зацепки и уснул.
Утром отец должен был повести его к зубному врачу. Мальчик был очень грустным и задумчивым. Отец решил, что он боится предстоящей встречи с врачом.
— Не бойся, сынок, — сказал он ему, — если будут вырывать зуб, тебе сделают болеутоляющий укол.
— Я не об этом думаю, — ответил мальчик.
— А о чем? — спросил отец, глядя на любимое лицо сына, кажется, осунувшееся за ночь.
— Я думаю о том, — сказал мальчик, — добреет человек или не добреет? Вообще?
— В каком смысле? — спросил отец, тревожно почувствовав, что мальчик уходит в какие-то глубины существования и от этого ему плохо. Теперь он заметил, что лицо сына не только осунулось, но в его больших темных глазах затаилась какая-то космическая грусть. Отцу захотелось поцелуем прикоснуться к его глазам, оживить их. Но он сдержался, зная, что мальчик не любит сантименты.
— Сейчас людоедов много? — неожиданно спросил мальчик, напряженно о чем-то думая.
— Есть кое-какие африканские племена да еще кое-какие островитяне, — ответил отец, — а зачем тебе это?
— А раньше людоедов было больше? — спросил мальчик строго.
— Да, конечно, — ответил отец, хотя никогда не задумывался над этим.
— А были такие далекие-предалекие времена, когда все люди были людоедами? — спросил мальчик очень серьезно.
— По-моему, — ответил отец, — науке об этом ничего не известно.
Мальчик опять сильно задумался.
— Я бы хотел, чтобы все люди когда-то в далекие-предалекие времена были людоедами, — сказал мальчик.
— Почему? — удивленно спросил отец.
— Тогда бы означало, что люди постепенно добреют, — ответил мальчик. — Ведь сейчас неизвестно — люди постепенно добреют или нет. Как-то противно жить, если не знать, что люди постепенно добреют.
«Боже, Боже, — подумал отец, — как ему трудно будет жить». Он почувствовал всю глубину мальчишеского пессимизма.
— Все-таки люди постепенно добреют, — ответил отец, — но единственное доказательство этому — культура. Древняя культура имеет своих великих писателей, а новая своих. Вот когда ты прочитаешь древних писателей и сравнишь их, скажем, со Львом Толстым, то поймешь, что он умел любить и жалеть людей больше древних писателей. И он далеко не один такой. И это означает, что люди все-таки, хотя и очень медленно, делаются добрей. Ты читал Льва Толстого?
— Да, — сказал мальчик, — я читал «Хаджи-Мурата».
— Тебе понравилось? — спросил отец.
— Очень, — ответил мальчик, — мне его так жалко, так жалко. Он и Шамилю не мог служить, и русским. Потому его и убили... Как дядю Георгия.
— Откуда ты знаешь, что доктора Георгия убили? — настороженно спросил отец.
— Вчера я лежал, но слышал из кухни ваши голоса, — сказал мальчик.
Отцу стало нехорошо. Он был простой инженер, а среди школьников, с которыми учился его сын, появилось немало богатых мальчиков, и сын им завидовал.
Взять хотя бы эту дурацкую историю с «мерседесом». На даче сын его растрепался своим друзьям, что у них есть «мерседес». Но у них вообще не было никакой машины. А потом мальчишки, которым он хвастался «мерседесом», оказывается, увидели его родителей, которые ехали в гости со своими друзьями на их «Жигулях». И они стали смеяться над ним. И он выдумал дурацкую историю, что папин шофер заболел и родители вынуждены были воспользоваться «Жигулями» друзей.
Объяснить сыну, что богатство не самое главное в жизни, что в жизни есть гораздо более высокие ценности, было куда легче, чем сейчас. Сейчас сын неожиданно коснулся, может быть, самого трагического вопроса судьбы человечества: существует нравственное развитие или нет?
Он знал, что мальчик его умен, но не думал, что его могут волновать столь сложные проблемы. Хорошо было людям девятнадцатого века, неожиданно позавидовал он им. Как тогда наивно верили в прогресс! Дарвин доказал, что человек произошел от обезьяны, значит, светлое будущее человечества обеспечено! Но почему? Даже если человек и произошел от обезьяны, что сомнительно, так это доказывает способность к прогрессу обезьян, а не человека. Конечно, думал он, нравственный прогресс, хоть и с провалами в звериную жестокость, существует. Но это дело тысячелетий. И надо примириться с этим и понять свою жизнь как разумное звено в тысячелетней цепи. Но как это объяснить сыну?
Когда они вышли из подъезда, он увидел, что прямо напротив их дома в переулке стоит нищая старушка и кормит бродячих собак. Он ее часто тут видел, хотя она явно жила не здесь. Нищая хромая старушка на костылях кормила бродячих собак. Она вынимала из кошелки куриные косточки, куски хлеба, огрызки колбасы и кидала их собакам.
У него не было никаких сомнений, что старушка все это находит в мусорных ящиках. Она с раздумчивой соразмерностью, чтобы не обделить какую-нибудь собаку, кидала им объедки. И собаки, помахивая хвостами, с терпеливой покорностью дожидались своего куска. И ни одна из них не кидалась к чужой подачке. Казалось, что старушка, справедливо распределяя между собаками свои приношения, самих собак приучила к справедливости.
— Вот посмотри на эту старушку, — кивнул он сыну, — она великий человек.
— Почему, почему, па? — быстро спросил сын. — Потому что она кормит бродячих собак?
— Да, — сказал отец, — ты видишь, она инвалид. Скорее всего, одинокая и бедная, но считает своим долгом кормить этих несчастных собак. Где-то мерзавцы убивают невинных людей, а тут нищая старушка кормит нищих собак. Добро неистребимо, и оно сильнее зла.
Теперь представь себе злого человека, который всю свою жизнь травил бродячих собак. Но вот он сам впал в нищету, стал инвалидом и роется в мусорных ящиках, чтобы добывать объедки и, сунув в них яд, продолжать травить бродячих собак. Если бы это было возможно, мы могли бы сказать, что добро и зло равны по силе. Но можешь ли ты представить, что злой человек в нищете, в инвалидности роется в мусорных ящиках, чтобы травить собак? Можешь ты это представить?
— Нет, — сказал мальчик, подумав, — он уже не сможет думать о собаках, он будет думать о самом себе.
— Значит, что? — спросил отец с жаром, которого он сам не ожидал от себя.
— Значит, добро сильней, — ответил мальчик, оглянувшись на увечную старушку и собак, которые со сдержанной радостью, виляя хвостами, ждали подачки.
— Да! — воскликнул отец с благодарностью в голосе.
И сын это мгновенно уловил.
— Тогда купи мне жвачку, — вдруг попросил сын как бы в награду за примирение с этим миром.
— Идет, — сказал отец.
Cандро из Чегема