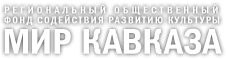Юрий Карпов
«СВОЕОБРАЗИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ И КАВКАЗСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ОБУСЛАВЛИВАЕТ В ЦЕЛОМ ДОСТАТОЧНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ИХ ОТКРЫТОСТИ И ГОТОВНОСТИ К ДИАЛОГУ...»
В свое время Российская империя, а позднее ее преемник Советский Союз объединяли в рамках одного политического пространства народы с различными историческими судьбами и культурными традициями. В качестве примера можно назвать Среднюю Азию и Прибалтику, представлявшие собой едва ли не полюса культурного разнообразия «одной шестой части суши». Различные в указанном отношении части страны внешне функционировали по единому, предписывавшемуся из «центра» регламенту, но внутри себя преимущественно жили по собственным порядкам и правилам. Я не собираюсь обсуждать вопросы о том, возможно ли было сохранение данного пространства и каковы причины и последствия распада СССР. Я только хочу заметить, что в современной Российской Федерации культурная гетерогенность населения менее значительная, хотя она существенна и дает о себе знать в различных сферах жизни. Достаточно сослаться на конфессиональный фактор, в последнее время приобретший очень большое значение. И можно тогда спросить: являются ли центральные районы России и Северный Кавказ культурными полюсами, для которых совместная жизнь если не противопоказана, то чрезвычайно затруднена. Центральные средства массовой информации полны кавказофобских материалов. Соответствующие настроения отчетливо присутствуют в общественном мнении. В свою очередь русофобские настроения слышны на Кавказе. Может быть это две плохо совместимые территории, с населением, исповедующим кардинально несовпадающие принципы жизни? Ведь официально пропагандировавшийся до недавнего времени тезис о добровольном вхождении абсолютного большинства народов Кавказа в состав Российского государства, мягко говоря, не совсем точен (как, впрочем, далек от истины и озвученный президентом Б.Н. Ельциным тезис о четырехсолетней войне России с чеченцами). Следует ли из этого, что отход Северного Кавказа от Российского государства уже в обозримом будущем реален?
Думается, что перспективы совместной жизни небезнадежны. Хотя в истории взаимоотношений народов Кавказа с Российским государством много драматических страниц, однако имеется и положительный опыт. Он накапливался в XIX в. и продолжал это делать в веке XX. Это значительные изменения в экономической сфере, когда народам, испытывавшим острую нехватку удобных для эксплуатации земель, таковые были предоставлены. Это очень значительные подвижки в области культуры, массовой, связанной с образованием населения, в ряде случаев с созданием письменности, а также культуры профессиональной – искусства, литературы. Это известные преобразования в области национально-государственного строительства. Сейчас часто ко многому из указанного и другого того же порядка относятся скептически с тех или иных позиций. И все чаще звучат разговоры о противостоянии цивилизаций в глобальном масштабе – христианской и исламской, западной и восточной, севера и юга и т.п., которое так или иначе проецируется на взаимоотношения народов, населяющих Российскую Федерацию. Одновременно достаточно активно не только в культурологическом, но и в политическом ракурсе обсуждаются специфики так называемых русской/российской и кавказской/горской цивилизаций. Что можно сказать о последних в историко-культурологическом аспекте. Кавказ является периферией переднеазиатского цивилизационного круга, что обусловливает наличие в отличительных чертах присущего ему культурного комплекса многих черт культуры переходного характера, связывающих его с цивилизацией евразийского лесостепного пояса. В свою очередь российскую цивилизацию можно рассматривать тоже как периферию европейской, в силу чего в ней тоже много черт, заимствованных от соседей с востока. Своеобразие положения российской и кавказской цивилизаций обусловливает в целом достаточно высокий уровень их открытости и готовности к диалогу, и в той или иной степени к достаточно широкому взаимодействию с соседями – представителями иного культурного круга. В какой-то мере такое взаимодействие приближается к взаимодополнению. Поэтому имеются основания для минимизации пессимистических оценок общего будущего России и Кавказа. Однако то, что наблюдается в отношениях России и Кавказа в последние 15 – 20 лет, в полной мере нормальным не назовешь.
Один из заявленных в программе настоящего круглого стола вопросов звучит как «перспективы взаимодействия России и Кавказа».
Что об этом можно сказать?
1. Одной из издержек осуществленных в 1990-е гг. реформ оказалась далеко не оптимальная коррекция образовательного поля в масштабах страны. В школьные программы были введены курсы по изучению истории регионов или города, где расположены школы, курсы по изучению культуры и традиций народа, в каждом случае «своего». В целом такие учебные курсы полезны и нужны, однако не в ущерб настоятельной потребности формирования в молодых поколениях граждан России «мы- образа» россиян. Что может узнать школьник Петербурга или Москвы из учебников о народах Кавказа, об их истории и культуре. Абсолютно критический минимум (вспоминаю, что в учебниках истории, по которым занимался в школе я, параграфы о народах России, по крайней мере об их борьбе с реакционным царизмом, информация имелась). В результате образ «кавказцев» у молодых людей центральных районов России в большей степени формируется через «знания», черпаемые из бытовых практик, и часто такие «знания» тенденциозного порядка. Не знают, какие народы живут в Российской Федерации, на почте спрашивают: «Дагестан это заграница?»
А на чем обучаются и воспитываются молодые люди в республиках Северного Кавказа, где в школьных программах предмет российской истории (но не общероссийской) дополняют курсы истории конкретной республики, «культуры и традиций» конкретного народа.
Изданный в 1998 г. в Москве учебник-хрестоматия «Культура и традиции народов Дагестана: Становление мужчины» (составитель Т.Г. Сагитов, утвержден Министерством образования Республики Дагестан) является рабочим пособием по социализации юношества республики, и потому требования к нему особые. Очевидно, что юношество должно быть готовым жить в тех условиях, которые существуют ныне, а не к тем, которые кому-либо желательно реконструировать. Безусловно, человеку необходимо знать собственные (своего народа) корни и историю, однако очевидно, что при этом важно не самолюбование, а корректный ввод одних и другой в контекст если не общечеловеческой истории и культуры, то тех ее форм, с которыми придется (будет вынужден) контактировать вступающий в жизнь молодой человек. Оправданы слова хрестоматии о самобытности национального характера и неповторимом духовном облике дагестанцев, «берущих свое начало из благодатного и чистого источника, единого, общего для братских народов Северного Кавказа». Однако замыкание «источника» на северокавказских или чуть шире – кавказских корнях выглядит посылкой к тенденциозности, которая уточняется в открывающем хрестоматию гимне единству кавказцев. Дальше – больше. Когда речь идет о помощи Махачкале и Дагестану после землетрясений 1960 – 1970-х гг. упоминаются лишь северокавказские республики и области того же региона, тогда как помощь пострадавшим приходила из самых разных уголков тогдашнего СССР: «Узбекгородок», гостиница «Ленинград» и т.д., построенные неупомянутыми в данном случае, но активно помогавшими нуждающимся жителями городов, республик, «народами», являются свидетельствами, не требующими доказательств. Тенденциозный изоляционизм «кавказскости» или тенденциозность особости и превосходства Кавказа, кавказцев и дагестанцев здесь декларируются через разные примеры. Из текста цитируемого литературного произведения: «Я хочу, чтобы ты был гордым, как дагестанские горы, чтобы характер твой был твердым, как камни дагестанских гор, чтобы сердце твое было добрым и чистым, как снег на дагестанских горах...»; и из комментария составителя: «... Даже гранитные скалы становятся острее благодаря духу и воле сынов гор» (с. 3, 78, 110). Культурные штампы хорошо известные. Очевидно, они должны присутствовать в таком учебном пособии, но не заполнять его от начала до конца. К слову заметить, данный учебник адресован юношам, очень многим из которых предстоит отправиться служить в российскую армию. Об отношении к службе в армии, сформировавшемся среди кавказцев издавна, хорошо известно. И также известны проблемы, возникающие в современных армейских условиях, в том числе на почве земляческих отношений. Но в учебнике о службе в армии не сказано ни слова.
Я не нашел в известных мне петербургских школах схожих учебников, но думаю, что в тех или иных регионах учебники и курсы по культуре русского народа имеются. Смею предположить, что в них будут часто упоминаться «русская душа» и соответствующая «духовность». А о духовности надо говорить не в национальных рамках, а в человеческих и, очевидно, гражданских. Иначе формируются местечковые «гордости», местечковые знания. Общее культурно-историческое пространство страны оказывается лоскутным, дисперсным, «мы образ» граждан единого государства нивелированным.
С учетом того, что в республиках Северного Кавказа работает большое количество исламских учебных заведений (средних и высших), очевидно возрастание дистанции в мировоззренческих установках молодого поколения населения собственно российских регионов и Северного Кавказа. Я в мыслях не имею предлагать ограничение количества исламских институтов, университетов и т.п., но хочу подчеркнуть настоятельную потребность корректировки содержания базовых курсов общеобразовательной школы.
2. Россия не только многонациональная, но и разноконфессиональная по составу населения страна, при том является светским государством. Поэтому, когда со стороны центральной власти делались и делаются особые реверансы в отношении православной церкви, это не может не вызывать обостренной реакции среди населения, исповедующего в частности ислам (а его доля в населении страны увеличивается и будет расти). Когда в 1990-е гг. в качестве символа возрождения России-государства было преподано строительство храма Христа Спасителя, самого большого христианского храма страны, «самая большая мечеть на Северном Кавказе» появилась в Махачкале, «самая красивая» – в Майкопе (где общественность живо обсуждала высоту минаретов относительно высоты колокольни предполагаемого христианского собора) и т.д. Если особо важные события в жизни страны освящает православный священник, если президент государства по особым случаям проводит консультации с патриархом Русской Православной Церкви, если обсуждается тема о введении в армии должности полкового священника и т.д., что должно думать и что решать та часть населения, которая исповедует другую веру? Да, религиозные авторитеты от разных конфессий приглашаются на те или иные государственные мероприятия. Однако перекос в известную сторону очевидный.
К месту заметить, в силу специфики исламских традиций роль мусульманского духовенства в жизни общества на местах на порядок, а то и два более значительная, нежели духовенства христианского. В сельской среде имамы мечетей (избираемые из числа местных жителей) принимают живое участие в решении всех общественных дел «первичного социума». Следовательно зримое дистанцирование мусульманского духовенства от центральной государственной власти (наглядно демонстрируемое последней) может вызывать у их паствы размышления и выводы весьма определенного характера.
3. Коль скоро светская государственная власть так или иначе, но обращается к институтам церкви (в собирательном значении), то очевидно она может, а лучше сказать должна совершить корректировку юридического поля, в котором пребывает поликонфессиональное население страны. Унифицированное юридическое пространство в пределах столь многоликой в различных отношениях страны все равно известная фикция. Очень и очень многие дела на местах разрешаются по обычаю – через стариков и т.д. Несколько лет назад центральная власть признала антиконституционным введение в Ингушетии права на многоженство. А реальная житейская, демографическая обстановка в этой республике в полной мере не была учтена. В нашем (в целом недостаточно образованном даже на уровне государственных мужей) обществе циркулируют клише об ущемленной в правах мусульманке, и они перевешивают чашу весов при решении подобных вопросов на высшем уровне. А что делать женщинам в современной Чечне, где мужчин по известным причинам явно недостает – заниматься проституцией, отбивать мужей у более «удачливых» (среди жительниц Ингушетии к чеченкам из числа многотысячных беженцев, обосновавшихся в этой республике, по данному поводу высказывается очень много претензий). Специалисты утверждают, что мусульманская правовая система не есть догматичная закостенелость, что европейские и исламские правовые институты и правовые культуры в целом могут взаимодействовать, что в ряде стран с поликонфес-сиональным населением (в Индии, ЮАР, Израиле, Греции) в отношениях, регулирующих личный статус (брачные, семейные, наследственные отношения) мусульман учитывается мусульманское законодательство, что то же в принципе допускает и российская Конституция (относя семейные вопросы к области совместного ведения федерации и ее субъектов), и, наконец, что «возрождение ислама в ряде регионов нашей страны неизбежно ставит вопрос о законодательном закреплении некоторых элементов мусульманско-правовой культуры в местах компактного проживания приверженцев ислама». Очевидно государственные законоведы и чиновники высшего звена должны с надлежащим знанием дела и ответственностью оценивать возможные трансформации в юридическом поле тех или иных субъектов федерации. От ограниченного, действительно не затрагивающих конституционных основ жизнедеятельности государства, общества полиюридизма на местах оно, государство, не пострадает, зато один из важных аспектов жизни людей окажется согласованным с традициями, к которым они по тем или иным причинам бережно относятся.
4. Государство, его структуры и институты несут большую ответственность за гармонизацию отношений в стране, между населением его регионов. На Кавказе мне приходилось слышать о том, что в центре, в Кремле отсутствует разработанная политика применительно к их весьма специфичному региону. Точнее кавказцы не утверждают, а ощущают это на себе. Ибо предпринимаемые центром действия в отношении местных субъектов федерации (ныне объединенных в Южный федеральный округ с достаточно странными только на первый взгляд границами) часто непоследовательны или, что еще острее воспринимается местным населением, игнорируют жизненные интересы граждан.
Один пример. В связи с выводом российских военных баз с территории Республики Грузия одну из них верховной властью было решено дислоцировать в Дагестане, конкретно в районном центре Ботлих, что в горной местности по соседству с Чечней. Ботлих стал широко известен в стране после событий 1999 г., когда его жители доблестно обороняли свою землю от вторгшихся со стороны Чечни боевиков. Однако о строительстве на их территории военного городка ботлихцы узнали задним числом и из СМИ. Ботлих – не просто местность на высоте около километра над уровнем моря, которая славится своими фруктовыми садами. Это народ (правда, весьма малочисленный, который наряду с другими подобными ему малыми народами Западного Дагестана в 1950-е гг. был лишен статуса самостоятельного), но это и язык, и образ жизни. Проблема не только в том, что из 500 га местных земельных угодий (которых не хватает всем жителям, в первую очередь молодого возраста) 60 гектаров решено изъять в пользу военного городка. Не сочли необходимым на начальном этапе обсуждения данного плана проинформировать местных жителей, общину (джамаат) Ботлиха о подобном изъятии. А сельская община являлась основным структурным звеном дагестанского общества, была микрогосударством и одновременно гражданским обществом. Все вопросы жизни местного общества находились в коллегиальном ведении взрослого дееспособного населения. Даже в условиях колхозно-совхозных порядков джамаат в Дагестане сохранял многие традиционные свои функции. Возможно в Москве думали, что оказывают услугу ботлихцам, предоставив им новые рабочие места, наладив инфраструктуру. Но вышло все крайне топорно. И началось пикетирование стройки, а злорадные языки стали говорить ботлихцам: «это вам подарок от Путина за ваши особые заслуги», имея в виду самоотверженные действия ботлихцев в 1999 г. А в СМИ возмущение местных жителей стали списывать на их якобы ваххабитские настроения. И не принять в расчет, что намеченный по плану военный городок разорвет земельные угодья ботлихцев на две части. И тем более никто из власть придержащих не задумался, что ботлихцы, как коренной малочисленный народ, обладают, согласно российскому законодательству, правом на предпочтительное пользование земельными угодьями этнотерритории. Летом прошлого года президент В.В. Путин посетил Ботлих, по телевидению показывали посещение им объектов строящегося военного городка, показанные сцены должны были тронуть душу телезрителей России. Президент живо интересовался наличием кондиционеров в казармах, составом солдатского пайка и т.п. О ботлихцах в репортаже не вспоминали, так как и вспоминать было не о чем – президент и лица, его сопровождавшие, с ними не встречались, визит высоких гостей был «точечным». А на президента ботлихцы возлагали большие надежды. Когда они ходили по высоким инстанциям, прося переместить военный городок из выбранного для строительства места на другое, то же их, ботлихское, но которое не разрывало бы территорию угодий, им отвечали, что вопрос этот чисто технический и не принципиальный для военных, но его решение должно быть согласовано с президентом; «но кто решится ему об этом доложить?» Высшая власть пролетела над ботлихцами.
Государство публично ратует за формирование в стране гражданского общества, для чего создаются новые солидные структуры и институты (например, общественная палата). А заметить издавна существующие и сохраняющиеся элементы такого общества оно оказывается не в состоянии, более того – ломает их.
Общие замечания
При всей сложности ситуации, взаимоотношения между Россией и Кавказом, если можно так выразиться (ибо преимущественно речь идет о субъектах Российской Федерации), не трагические. В их гармонизации права, функции и обязанности государства чрезвычайно велики. Но вряд ли здесь стоит о них говорить (иные аудитория и жанр встречи). Очень многое во взаимоотношениях зависит от общественного мнения в стране в целом, и в ее регионах, которые живут в большой мере с учетом своих традиций. А на общественное мнение можно и нужно влиять. Литература, искусство, особенно телевидение в состоянии и должны снимать нагар различных фобий, тем более не создавать их. ТВ тиражирует негативную информацию о Кавказе, будь то подбор новостей или а-ля патриотические сериалы о борьбе с боевиками (в абсолютной своей массе сериалы плохие или вздорные, где «хорошие» герои воюют на фоне «в целом» не очень культурного населения – лиц кавказской национальности), и при таких условиях мы, скорее всего, приведем в тупик «взаимоотношения России с Кавказом». Если присутствующие здесь авторитетные люди смогут повлиять на своих друзей и коллег, снимающих кино и т.п. «про Кавказ», то, мне представляется, задача этой встречи будет выполненной.
В разделе:
- Юрий Лужков
- Ахсарбек Галазов
- Людмила Швецова
- Валерий Гергиев
- Юрий Башмет
- Ширвани Чалаев
- Евгений Трофимов
- Белла Ахмадулина
- Виктор Федоров
- Владимир Соскиев
- Маргарита Лянге
- Андрей Битов
- Фазу Алиева
- Вячеслав Михайлов
- Элина Быстрицкая
- Мовсар Минцаев
- Яков Гордин
- Елена Камбурова
- Хажбикар Боков
- Жибек Сыздыкова
- Юрий Карпов
- Муса Дудаев
- Шапи Казиев
- Борис Коркмазов
- Эдуард Баграмов
- Александр Эбаноидзе