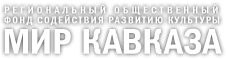Эдуард Баграмов
«НАША ЦЕЛЬ - МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ»
Ход обсуждения на данном «круглом столе» актуальных проблем жизни народов России и Кавказа, как и материалы первого заседания «круглого стола» (2001 г.), подтверждают, что национальный вопрос остается одной из актуальнейших проблем жизни России. Он включает ряд крупных общегосударственных и локальных, на первый взгляд, малозначительных проблем, от разрешения которых во многом зависит климат в стране и в отдельных ее регионах. Здесь вопросы государственного устройства России и правового регулирования национальных отношений, обеспечения прав малочисленных народов и борьбы против проявлений нетерпимости и ксенофобии, защиты интересов соотечественников, оказавшихся после распада СССР в зарубежных странах, и патриотического воспитания молодежи. Демократизация общественной жизни выявила не только широкий спектр этих проблем, многие из которых сравнительно недавно не подлежали даже робкому упоминанию, но и во многих случаях их необычайную остроту и злободневность. Нынешняя дискуссия вокруг проекта Закона об основах национальной политики РФ равно как и обновления Концепции государственной национальной политики РФ (1996 год) отражает возросшие требования общественности к разработке этой стороны нашей жизни.
Упрощенное восприятие национальных проблем лишь как досадных «проявлений национализма», бытовавшее в прошлом, уступает место попыткам серьезно разобраться в характере этих проблем, осознать их общероссийскуюзначимость, выдвинуть варианты их решения. Эти проблемы пронизывают всю нашу общественную жизнь, затрагивают экономическую, государственно-правовую, социальную и духовную сферы и являются неплохим барометром состояния общества в целом.
В советское время, говоря о национальных проблемах, имели в виду проблемы, главным образом, нерусского населения. Не случайно в сформированном в послеоктябрьский (1917 г.) период Наркомнаце не было русской секции, то есть фактически игнорировались вопросы национального развития примерно половины населения страны.
Сегодня наряду с животрепещущими проблемами народов Северного Кавказа и Крайнего Севера во весь рост встали вопросы национального развития русского народа, тюркских, финно-угорских и других народов. В некоторых регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург, происходят ранее казавшиеся невозможными случаи нападения на приезжих, будь то африканцы или индийцы, кавказцы или таджики. Страна, отметившая шестидесятилетие победы над фашистской Германией, с тревогой и негодованием узнает о расистских выходках неких скинхедов.
Преступления на национальной почве происходят в условиях нарастания демографического кризиса, острой дискуссии вокруг концепции миграционной политики. Национальный фактор активно используется как козырная карта разного рода политиканами, далекими от стремлений отстаивать подлинно народные интересы, но рассчитывающих на завоевание дешевой популярности среди неискушенной части населения.
Отрадно, что в выступлениях на данном «круглом столе» деятелей культуры России прозвучали трезвая оценка этнополитической ситуации в стране, стремление обозначить роль и место писателей, художников, публицистов нашей многонациональной страны в достижении межнационального мира и согласия.
В наступившем XXI столетии перед Российской Федерацией стоит задача остановить воздействие центробежных тенденций, интегрировать экономически, политически и духовно республики, края, области России на обширном евразийском пространстве и вместе с тем укрепить и углубить сотрудничество с постсоветскими государствами, с тем, чтобы на равноправных началах и с максимальной пользой включиться в мировые экономические связи и рыночные отношения. Обновленная национальная миграционная политика может и должна внести свой вклад в преодоление нестабильности в том или ином регионе, если она будет отражать многообразные интересы народов России, иметь четкие механизмы их согласования.
Значение такой политики тем более возрастает в условиях глобализации, когда формирование единого экономического и политического пространства ставит вопрос о сохранении духовных традиций каждого из народов во все более активном взаимодействии культур Запада и Востока.
Кавказ – это мост между Европой и Азией и в то же время важнейший геополитический плацдарм, на котором разворачивается ожесточенная борьба великих держав. Но исторически и географически он тесно связан именно с Россией, и в сознании его различных народов, несмотря на все испытания, сохранились чувства уважения и дружбы к русскому народу. Поэтому безусловное сохранение Северного Кавказа в составе России, равно как и принадлежность закавказских республик к Содружеству Независимых Государств – гарантия стабильности и в этом регионе.
Развернувшаяся дискуссия показывает, сколь важны на современном этапе теоретическое осмысление места и роли национального фактора в жизнедеятельности российского общества, свежий научный взгляд на ту сферу общественной жизни, которая едва ли не более других пострадала от догматизма и равнодушия.
Принятая в июне 1996 г. Концепция государственной национальной политики – в настоящее время готовится обновленный ее вариант – продиктована стремлением сформулировать систему современных взглядов, принципов и приоритетов в деятельности федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере национальных отношений. Концепция исходит из необходимости обеспечения единства и целостности России в новых исторических условиях, согласования общегосударственных интересов всех населяющих ее народов, налаживания их всестороннего сотрудничества, развития национальных языков и культур.
Сама необходимость разработки такой концепции стала очевидной уже в конце 80-х – начале 90-х годов, в связи с серьезнейшими испытаниями, которым подверглись прежние теоретические и политические подходы к национальному вопросу.
Марксизм, несомненно, оказал огромное воздействие на революционную и национально-освободительную борьбу народов, он противопоставил узколобому национализму интернациональные цели и задачи рабочего движения. Процесс претворения в жизнь интернационалистских идей в нашей стране оказался, однако, весьма противоречивым, что вытекало не только из самой доктрины, но и из несовершенства способов ее реализации. В концептуальном плане нельзя не отметить абсолютизацию классового подхода к национальным отношениям, ошибочную установку на слияние наций и скорое отмирание национальных различий, преждевременные декларации о решенности национального вопроса в нашей стране, поверхностное отождествление национального сознания с национализмом, игнорирование специфических интересов и особенностей наций и национальной психологии. Попытки отдельных ученых, включая автора этих строк и практических работников, привлечь внимание советского руководства к этой сфере, как правило, наталкивались на глухое сопротивление, вызванное боязнью нарушить «стабильность», и поэтому отвергались A когда начались конфликты на национальной почве, проще всего было обвинить в этом... обществоведов.
Сама жизнь дала суровую оценку многим аспектам прежней национальной политики. Расхождение слова и дела, репрессии против ряда народов, догматизм и лозунговый интернационализм вместо живой творческой работы. Наряду с бесспорными достижениями в развитии и сотрудничестве народов, которые имелись в советский период и которые не могут и не должны предаваться забвению, проводился курс на унификацию, заложивший основу нынешних противоречий. В целом же имела место вопиющая недооценка роли и места национального фактора в общественной жизни. По признанию видных деятелей современности, «одной из главных причин кризиса национальных отношений была теоретическая слабость руководства страны. Практически никто в верхних эшелонах власти и академических кругах, даже в последние годы существования СССР, не хотел серьезно заняться национальным вопросом.
Трактуя национальные отношения, исходя из классовых, теоретики и политики, как правило, не принимали во внимание исключительную эффективность процессов национальной мобилизации, неуклонный рост значения национального фактора в мировом развитии. Сказался и известный европоцентризм многих из них. Обнаружилось непонимание советскими теоретиками того, что в Советском Союзе существовали различные типы национальных отношений, так что регулирование этих процессов в Прибалтике и в Украине, в Центральной Азии и на Кавказе требовало совершенно различных способов и концептуальных подходов.
Такие понятия, как воля нации, ее менталитет, национальный дух, национальная чувствительность, достоинство и честь нации, в прошлом не интересовали исследователей, воспитанных в лучших традициях «экономического детерминизма». Неудивительно, что и представления о национальных отношениях складывались у них поверхностные и однобокие. Недостаток этот не преодолен и по сей день. Исследователям, как и политикам, все еще не хватает системного взгляда, философского осмысливания единства объективных и субъективных факторов в национальном вопросе.
Между тем, разного рода субъективизм, волюнтаризм и просто дилетантизм в сфере национальных отношений очень дорого обошлись стране, так что потребность во взвешенном, всестороннем взгляде на эту области жизни как никогда велика.
«Неожиданным» бурный всплеск национальных движений к концу существования СССР оказался лишь для тех, кто ранее всерьез не изучал национальные процессы. Так ли уж непогрешима была советская национальная политика, если ее детище – Советский Союз не выдержал испытания временем. Не повторит ли Россия его печальную участь?
Удручающая, с точки зрения многих россиян, попытка силового решения чеченского кризиса (1994 г.) постепенно приводила общественность к более широким умозаключениям.
Во-первых, оказались несостоятельными оптимистические прогнозы федерального военного руководства, оперирующего такими весомыми материальными категориями, как соотношение сил, численность и техническая оснащенность войск, образованность командного и рядового состава, решимость властей навести «конституционный порядок» в «логове сепаратистов», игнорируя предупреждения ученых и специалистов о чрезвычайной ранимости национальной психологии горцев и воле народа, веками боровшегося за свое освобождение. Но о Кавказской войне XIX в. многие забыли. А проведенная Берией операция по депортации чеченцев в считанные часы не оставляла сомнения в превосходстве фактора силы. Как глубоко проникло в сознание иных военных и гражданских лиц убеждение, долгие годы вдалбливаемое посредственными преподавателями философии, будто «национальное сознание», «национальный дух» и прочее – мистика, идеалистическая чепуха, о которой не стоит и говорить!.. А между тем сила этого духа, часто консервативная, а порой даже темная, бессознательная, иррациональная, его удивительная стойкость и жизнеспособность, непонятные для тех, кто определяет достоинство нации только величиной валового внутреннего продукта на душу населения, опровергают, казалось бы, логичные квазинаучные построения. И если не считаться с этим фактором, то обязательно проиграешь. Удивительно ли, что многие террористы в глазах чеченских масс стали народными героями, а те, кто призывал к единению с Россией, – предателями нации.
Во-вторых, стала очевидной полная обоснованность содержащегося в Концепции государственной национальной политики РФ вывода о том, что на государственном уровне еще не утвердился системный, взвешенный взгляд на национальный вопрос, не стали нормой при разработке и проведении государственной национальной политики опора на научный анализ и прогноз, учет общественного мнения и оценка последствий принимаемых решении.
Вспомним знаменитую фразу: «Берите суверенитета столько, сколько проглотите». Быть может, в какой-то мере актуальная в тот момент, и то лишь для отдельно взятой республики, она приобрела универсальность именно в силу неумения или нежелания тех, кто проводил национальную политику, мыслить перспективно, учитывать специфику условий в каждом случае. А многие регионы в состоянии эйфории явно переоценили свои возможности самостоятельного существования. Конституция РФ отвергла понятие «суверенитет» в применении к субъектам федерации. Пришлось немало поработать, чтобы привести их законодательство в соответствие с федеральной Конституцией и законодательно закрепить целостность государства.
Другой пример – распад СССР. Все реже раздаются голоса тех, кто доказывал его благотворность для России, которая, мол, кормила весь Союз, атеперь сбросила с плеч эту обузу. Конечно, это был крупнейший стратегический проигрыш – экономический, геополитический, идеологический – народов, объединившихся в 1922 году в одну семью.
Важна и другая сторона вопроса, на которую обращают внимание исследователи: «То, что СССР распался не столько в результате действия неких исторических законов и стремления народов к национальному самоопределению, а в результате глубокого раскола советской элиты, отдельные группы которой, прежде всего и самоопределились, сегодня становится все более общепризнанным». В связи с этим отмечается необходимость изучения и оценки роли индивидуальных стратегий, особенно среди политических лидеров и других активистов общественного пространства.
После распада СССР Россия, как и некоторые другие страны СНГ, долгое время не могла определиться, идти ли ей по пути экономической интеграции или стараться выбираться из кризиса в одиночку.
А объясняется это во многом тем, что и в ходе беловежских переговоров и после них у нас, видимо, еще не было ясности в вопросе о том, соответствует ли та или иная линия российским национальным интересам и как понимать эти самые интересы. Резкий отказ от всего, что было связано с прежними представлениями об «интернациональном долге», сам по себе вполне естественный, не сопровождался адекватным пониманием того, что реализовать собственный национальный интерес невозможно, абстрагируясь от интересов и потребностей каждого из партнеров. Философия интеграционизма – это не национальный эгоизм, к которому зовут иные национал-патриоты, а продуманное сочетание всех этих интересов, от чего выигрывает каждый член Содружества. Отрадно, что в государственные структуры РФ приходит понимание того, что национальная политика – это не словесный интернационализм и громкие призывы к борьбе против национализма всех мастей, как это нередко бывало в прошлом, а в основе своей защита прав и свобод человека независимо от национальности, учет интересов и особенностей народов своей страны, равно как и достижение согласия во имя общего прогресса, равноправного взаимодействия со своими партнерами.
Это занятие не из простых, потому что приходится иметь дело с живыми людьми, по-своему понимающими национальные интересы и часто придерживающимися этноцентрических воззрений.
Приходится сталкиваться и с агрессивным национализмом, шовинизмом, антисемитизмом. В печати по праву осуждены русофобские откровения бывшего вице-премьера А.Коха. Вместе с тем дает о себе знать и требование признать национализм адекватной формой воззрений народа. Так, политолог К. Крылов в предисловии к книге Е. Холмогорова «Русский националист» пишет: «Сейчас в эпоху бушующей толерантности, когда любая мерзость и глупость без труда находит себе адвокатов, а там и последователей, во всем мире существует лишь один субъект, которому заранее отказано в праве говорить и быть выслушанным, и лишь одно мировоззрение, которое объявлено неприемлемым и преступным. Это русский народ и русский национализм».
За последние годы заметно выросло число респондентов, полагающих, что «Россия должна быть государством русских людей»: с 11% в 1998 г. до 17% в 2004 г. Соответственно, на 11% сократилась доля тех, кто полагает, что «Россия – общий дом многих народов». 58% опрошенных россиян отрицательно отнеслись бы к избранию президентом России человека нерусской национальности против 45% в 1998 г. А ноябрьский опрос 2005 года: «Какие чувства Вы испытываете по отношению к приезжим с Северного Кавказа, из Средней Азии и других южных стран, проживающим в Вашем городе, районе?», дал следующие результаты – «уважение» – 2%, «симпатию» – 3%, «раздражение» – 20%, «неприязнь» – 21%, «страх – 6% и «никаких особых чувств» – 50%. Суммируя, получим, что негативные чувства проявляются у 47% населения, т. е. на порядок превышают позитивное отношение.
Примечательно, что проведенный в июне 1990 г. опрос, как бы отнеслись люди к тому, чтобы беженцы селились в том месте, где живут опрошенные, дал результаты, заметно отличающиеся от нынешних: 27% – положительно, 34% – безразлично и 30% – отрицательно. Более половины населения России в 1990 г. осуждало любые проявления национальной неприязни.
Автор публикации Лев Гудков поясняет, что носители ксенофобии – это не люмпены, не маргиналы, а обычные люди, средние по основным своим характеристикам: прежде всего это квалифицированные рабочие и технические служащие без специального образования и квалификации, а также низкооплачиваемые рабочие. Более терпимо относятся к приезжим предприниматели, особенно негативно – милиция и военные, рабочие и пенсионеры. Примечательно, что запрет на прием в госслужбу «лиц кавказской национальности» требуют 15% респондентов, мусульман – 10%, евреев – 8%, бизнесменов – 6%, всех неправославных – 5%. При этом примерно 43-47%, решительно возражают против какого-либо присутствия мигрантов в России.
Русский народ, как хорошо известно, завоевал любовь и уважение народов России именно тем, что никогда не выпячивал свои национальные интересы в противовес интересам других народов, а стремился к их сочетанию, т.е. был интернационалистом. Верно, правящие круги Страны Советов подчас упускали из виду, что интернационализм в научном понимании слова не должен вести к забвению национального начала, национальных интересов. Однобокого, жертвенного интернационализма, внушаемого его ретивыми проповедниками в прошлом, больше нет и не будет. Русская нация, как и другие народы России, возрождает национальное достоинство и определяет, если хотите, свое историческое предназначение не на путях национального обособления, а сознавая себя ядром многонационального российского народа, созидающего демократическую Россию.
Здесь, пожалуй, есть смысл внести одно терминологическое уточнение. Когда говорят, что в понятие «национализм» вкладывается «любовь к своему народу», то хочется возразить, что российская традиция вряд ли приемлет такое толкование, предпочитая ему в данном случае «патриотизм». А в национализм традиционно вкладывается негативное содержание. Между тем в западной политологии национализм употребляется и в том, и ином смысле.
Национализм – это такое состояние ума и психики, при котором наблюдается особо подчеркнутая, акцентированная и часто эмоционально окрашенная реакция на любое упоминание о ценностях данной нации. Оно, как правило, связано с представлением о ее исключительности и сопровождается прямо или замаскировано демонстрацией предвзятого или отрицательного отношения к другим народам и их ценностям. Нередко это следствие былого угнетения, пренебрежительного отношения, дискриминации данного народа и в этом смысле – логичная реакция на унижение, которое испытывали его представители. Но в национализме немало иррациональных мотивов и устремлений. Эти мотивы и установки скрыты в подкорке индивидуума, так что доводы логики и здравого смысла на него никак не действуют. Переубедить закоренелого националиста или шовиниста – задача нереальная. Специалисты указывают, что лобовая практика «просвещения» темной массы, зараженной предрассудками, абсолютно неэффективна. Стало быть, дело заключается в том, чтобы сызмала воспитывать у каждого терпимость (толерантность) к людям иной расы, национальности, культуры, знакомить их с лучшими образцами национальных культур других народов, пробуждать интерес к их истории, обычаям и нравам. Это – грандиозная, прежде всего просветительская задача не только государственных, но и общественных, а также частных организаций, без решения которой вряд ли можно говорить о подлинной цивилизованности создаваемого нами гражданского общества.
К сожалению, наши государственные и общественные органы упустили из виду необходимость постоянной борьбы против любых проявлений ксенофобии, оскорбления национального достоинства гражданина. Важно не от случая к случаю, а именно системно и постоянно вести эту работу, воспитывать как патриотизм, так и уважение к национальным ценностям любого народа.
Одним из центральных социально-перцептивных процессов, регулирующих восприятие и поведение контактирующих этнических групп, является стереотипизация. Исследования, проведенные московской миссией Международной организации по миграции в 1998-2002 годах в пяти областях России, показали довольно высокий уровень мигрантофобии, главным образом, кавказофобии в области массового притока мигрантов. Отсюда, казалось бы, следует вывод: для предотвращения роста этносоциальной напряженности Россия должна стремиться либо к максимальному сокращению миграционного потока, либо к полной закрытости границ. Его и придерживаются сторонники ограничительной и селективной миграционной политики. Однако серьезные исследования показали, что большая часть населения руководствуется в своем отношении к мигрантам не личным опытом, а сложившимися в данном социуме стереотипами и мифологемами.
Любопытны данные исследования «Этническая иммиграция в Москве», проведенного по программе «Москва на пути к культуре мира» под эгидой Московского центра культуры мира. Исследователи проанализировали коллизию, которую должна как-то разрешить российская миграционная политика: с одной стороны резкая отрицательная реакция общества на иммиграционный поток, а с другой – невозможность воспрепятствовать иммиграции и потребность того же общества в иммигрантах.
Оказывается, многое здесь зависит от преодоления негативных стереотипов другой стороны, складывающихся как у местных жителей о приезжих, так и у приезжих – о местном населении. Примечательно, что доля негативных оценочных компонентов в образе коренных русских (75%), сложившихся у мигрантов, в 3 раза превышает долю позитивных оценочных компонентов. Что касается мнений о приезжих, складывающихся у местного населения, то обращает на себя внимание не только наличие меньшего числа отрицательных стереотипов (50%), но и в процентном соотношении большее число позитивных качеств у переселенцев (32%). Например, местные жители, указывая на «расчетливость», «озлобленность», «хитрость», «наглость», «замкнутость» и другие черты, якобы свойственные переселенцам, вместе с тем отмечают среди распространенных черт энергию, деловитость, гостеприимство, вежливость, доброжелательность, терпимость, трудолюбие и другие положительные свойства. Авторы исследования в ходе сопоставления авто- и гетеростереотипов у той и другой стороны приходят к выводу о меньшем субъективизме и искажении восприятия представителей местного населения.
Хотелось бы отметить интересные результаты социологического мониторингового исследования перспектив формирования у представителей этнических общностей Москвы установок толерантного сознания, а также рекомендации по совершенствованию национальной политики города, воспитанию национальной толерантности у коренных москвичей и проживающих в Москве представителей этнических общностей.
Эти и другие исследования, в частности по Москве, подтверждают, что среди различных вариантов миграционной политики – а) прекращения приема приезжих в Москву, б) заметного ограничения доступа в Москву, например, представителей нероссийских регионов, в) выполнения принятых во всем цивилизованном мире стандартов и правил, записанных и в Конституции РФ – «каждый, кто законно находится на территории РФ, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства (ст. 27, гл. 2) – остается один путь – третий. Вместе с тем, вопрос о том, как безболезненно сочетать, с одной стороны, соблюдение человеческих и национальных прав и интересов приезжих и – с другой – нормальное существование, функционирование и дальнейшее развитие во благо москвичей и всей страны мегаполиса, решается с учетом неизбежных последствий влияния стихийной миграции на все стороны жизни города – социальную, экологическую, экономическую, криминогенную и на то, как все это отразится на межнациональных отношениях.
Многое здесь зависит и от того, как решается проблема адаптации, т.е. приспособления человека к новой среде. Речь идет о языковой, экономической, социальной и культурной адаптации приезжих. Несомненно, что концентрация мигрантов создает дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру, что заметно усиливает напряжение между переселенцами и местным населением, т.к. растут претензии на ограниченные ресурсы (продовольствие, жилье, а также на рабочие места). «…Массовая миграция, усугубляя положение местного населения, формирует условия для новых межнациональных конфликтов, принимая характер цепной реакции», – отмечают авторы проведенного исследования.
А вот печальная статистика: в 2004 году на почве ксенофобии были убиты 46, избиты и ранены 208 человек, в 2005 году убиты 28, избиты и ранены 374.
Следует подчеркнуть: чувство этнофобии усиливается в сознании многих граждан России, включая москвичей, не только на базе собственного восприятия явно нерегулируемого процесса миграции, в той или иной степени драматизированного, но и ввиду недостаточной деятельности властей, долго наблюдавшейся нерешительности в борьбе с криминалитетом, что усугубляло недоверие населения к властям и институтам, способным обеспечить безопасность граждан и их права. Сказывается и отсутствие внятной национальной политики как в отдельных регионах, так и в центре России, фактическое забвение задач духовного воспитания масс, прежде всего молодежи. К сожалению, некоторые популярные российские газеты подчас воспроизводят негативные образы не только отдельных людей, но и целых народов. Вот, к примеру, заголовки ряда статей последних лет: «Мошенники-китайцы», «Украинка выбросила ребенка в мусорный бак», «Полный абхаз для грузин», «я русский бы вычеркнул только за то…», «Уродина-мать зовет», «Доколе евреи будут нами править», «Чеченские гномы – грязные, бородатые, они появляются ниоткуда и уходят в никуда», «Враг ты мой, кавказский», «Русские бандиты всегда лучше», «Секур башкир», «Обреченная нация»,, «Зачем вы, девочки, нацистов любите?», «Бей цветных, спасай Россию», «Наци в городе».
«Я могу сказать, – справедливо подчеркивает МЭР Москвы Ю.М. Лужков, – если государство не будет заниматься вопросами интернационального воспитания на основе уважения национальных традиций и деятельности этнических образований, то Россия распадется. И темпы этого распада будут ошеломляющими».
Такая система, как известно, у нас существовала, но была проникнута формализмом и бюрократизмом. Жаль, что с мыльной водой был выброшен и ребенок. Задуматься над этим стоит и в Центре, и в регионах.
Кстати, принятая в 1996 г. Концепция государственной национальной политики верно указывает на такие узловые проблемы, как совершенствование российского федерализма, укрепление целостности Российского государства; развитие национальных культур и языков народов РФ, укрепление духовной общности россиян, обеспечение политической и правовой защищенности малочисленных народов и национальных меньшинств; достижение и поддержание стабильности, прочного межнационального мира и согласия на Северном Кавказе; поддержка соотечественников, проживающих в государствах СНГ и Балтии.
К сожалению, Концепция государственной национальной политики не подкреплена в должной мере конституционно-правовыми принципами и механизмами регулирования межнациональных отношений и пока слабо используется при решении конкретных задач в этой сфере. При доработке Концепции следовало бы более обстоятельно раскрыть задачи в области воспитания, преодоления нетерпимости этнофобии в межнациональных отношениях, раскрыть ряд понятий, как «многонациональный народ России», соотношение гражданской и этнической концепции нации.
Сохранит ли Россия как государство свою традиционную многонациональную структуру или возьмут верх усилия, направленные на ее превращение в унитарное мононациональное государство? Примечательно, что спор не идет о том, отстаивать ли целостность России, – здесь, казалось бы, существует ясность, она необходима как гарантия будущего величия и процветания. Но по вопросу о том, как этого добиться, мнения расходятся.
Реальная угроза роста агрессивного национализма и сепаратизма поневоле заставляет переосмыслить былые подходы к нации и национальным отношениям. Не заключена ли одна из причин нынешних неурядиц в этой сфере в мистификации самого понятия «нация», и не следует ли в этом искать источник обострения национального вопроса? Почему бы в таком случае не отказаться от употребления данного термина в былом его значении? Ведь в мировой научной литературе и международной политической практике, говорят сторонники этой точки зрения, нация все чаще толкуется вне этнического содержания и подразумевает лишь совокупность граждан одного государства. Например, Организация Объединенных Наций. Поневоле вспоминается, что на Западе во имя развенчания расизма предлагалось отказаться от понятия «раса».
По-видимому, такие предложения обусловлены не в последнюю очередь и продолжающимися спорами по поводу определения нации и того, кого следует относить к нации, народности или национальной группе. Здесь действительно еще не изжит старый догматизм, подчас довлеет жесткая сталинская схема, загоняющая народы в прокрустово ложе раз и навсегда данных признаков. На основе такого подхода многие народы произвольно лишались национальных атрибутов, что влекло за собой ущемление их статуса. Наиболее ярким проявлением такого волюнтаристского подхода была сложившаяся в СССР иерархия государственно-национальных образований – деление их на союзные, автономные республики, автономные области и округа, что не всегда имело под собой какое-либо логичное обоснование.
Как представляется, давно уже следовало отказаться от сталинского вердикта: достаточно отсутствия одного из четырех признаков, чтобы нация перестала быть нацией. Такой подход, во-первых, не учитывал огромного многообразия путей становления наций в современном мире, а, во-вторых, создавал искусственные препятствия для государственного или административного оформления тех или иных народов в случаях, когда это было продиктовано жизнью. Но само понятие «нация», несомненно, заключает в себе совершенно определенное реальное содержание – одновременно социально-этническое, культурно-историческое и политическое, то есть представляет собой сложный и многообразный феномен современной действительности. Поэтому выдвинутая президентом России ориентация на формирование российской политической (гражданской) нации, на мой взгляд, имеет в виду наднациональную совокупность сохраняющих свою специфику этносов, которую, возможно, назовут многонародной российской нацией.
В современном мире все явственнее дает о себе знать противоречие между всемирно-исторической тенденцией к интеграции и стремлением народов к национальному самоутверждению. Характерно оно и для России.
Разрыв многолетних экономических, культурных и иных связей между регионами бывшего СССР болезненно сказывается на всех сторонах жизни народов. Попытка замкнуться в национальную скорлупу была бы гибельна для любого из них. Это становится все более очевидным, так что эйфория от всеобщей суверенизации постепенно уступает место более трезвому пониманию национальных интересов каждого. Но стремление к национальному самоутверждению остается.
Административный произвол, имевший место в прошлом и приведший к несовпадению этнических и административных границ, – тот фон, на котором развертываются национальные движения. Эти процессы внимательно изучают западные исследователи. «Во всех республиках и большинстве автономиях произошла этнизация политики, – пишет профессор Чикагского университета Рональд Сьюни. – Большее представительство и более широкие права предоставлены так называемым титульным национальностям. Национальный фактор превратился в могучий источник преимуществ или недостатков в распределении бывших советских ресурсов». Все это, конечно, драматизирует обстановку. Разбуженное национальное сознание с трудом мирится с необходимостью поэтапного решения стоящих перед народом проблем, представители иных национальных движений нередко выступают с максималистскими требованиями. Этот этнонационализм нельзя «запретить». С ним придется считаться, одновременно имея в виду программу последовательного решения унаследованных от прошлого проблем.
Такую программу еще предстоит создать для каждого региона. Однако, уже сейчас ясны те принципы, которыми руководствуется или должен руководствоваться федеральный центр в национальной политике: демократизм, открытость национальной политики; отказ от силового решения национальных противоречий; равноправие народов – больших и малочисленных; национальное самоопределение; государственный суверенитет Российской Федерации; территориальное единство и целостность РФ и субъектов федерации; федерализм; признание дружбы и солидарности народов высшими этническими принципами, а шовинизма и этнофобии – факторами саморазрушения общества.
При изучении программ ряда общественных движений России убеждаешься, что национальный фактор рассматривается, прежде всего, как деструктивная сила. Положительную же роль этого фактора в экономическом, социально-политическом, культурном развитии часто игнорируют. Вероятно, это одна из застарелых традиций ультрарадикалов, которые еще на заре Советской власти устами Пятакова заявляли, что «никаких наций не нужно, а нужно объединение всех пролетариев в единой республике Советов», настаивая на том, чтобы национальный вопрос был исключен из программы.
Принцип права народа на самоопределение вызывал и вызывает, пожалуй, большие споры. Неверно отождествлять его с обязательным отделением, как поступают заведомые националисты и сепаратисты. Но нельзя впадать и в другую крайность. Известно, что сторонники толкования нынешнего этапа нашего развития как постнационального предлагают отказаться не только от самоопределения, но и от национально-государственного принципа как такового.
Но, во-первых, предложение заменить его национально-культурной автономией неправомерно, так как последняя может и должна с успехом использоваться не вместо, а наряду с национально-территориальными образованиями. Отечественный и международный опыт подтверждает жизненность права на самоопределение. Другое дело, что реализация этого принципа у нас проходила с серьезными деформациями.
Во-вторых, самоопределение ошибочно понималось как единовременный акт, а не как постоянный процесс развития наций, народов.
В-третьих, в концепцию союзного договора 1922 год были заложены противоположные принципы: идея федерации (СССР) и идея автономизации (РСФСР) как компромисс ленинской и сталинской формулировок. На практике федерации не получилось, возобладало движение к унитарному государству. При этом и в РСФСР, и в СССР не был определен статус русской нации. Это, с одной стороны, мешало видеть русские, российские интересы, а с другой – ставило русскую нацию де-факто и в РСФСР, и в СССР в положение правящей, державной, чем не замедлила воспользоваться бюрократия центра, осуществлявшая жесткий централизованный контроль над всей жизнью многонациональной страны как бы от имени русского народа.
Предотвратить этот процесс можно было лишь обеспечив подлинный (а не словесный) суверенитет республик, входящих в СССР, и соответствующее повышение статуса республик РСФСР. Но в том-то и дело, что вместо свободного волеизъявления и самоопределения в обоих случаях имело место навязывание народам той или иной формы государственности или автономии, либо лишение народов и того, и другого. Едва ли, например, убедительной была ссылка на то, что Татария или Башкирия не могут быть союзными республиками, так как не граничат ни с одним иностранным государством и не могут в силу этого осуществить право выхода из состава СССР (как будто к этому сводилось самоопределение и равноправие народов!).
В-четвертых, вместо декларированного равноправия сложилась иерархия державных и подчиненных народов. На плечи русской нации возлагалась «интернационалистская миссия»: идя на сознательные жертвы, постоянно нести свой крест – оказывать бескорыстную помощь ранее угнетенным нациям. Причем то, что было сказано в определенной обстановке, возводилось в абсолют как критерий интернационализма (впоследствии нашему народу по той же логике приходилось «осчастливливать» многие народы Африки, Азии, Латинской Америки, а также приносить жертвы ради «свободы и прогресса» венгерского, чехословацкого, афганского и иных народов). Русскому народу пришлось расплачиваться за ошибочный, во многом ассимиляторский курс центрального руководства, что нередко делало его объектом неприязни в Прибалтике и Украине, в Молдавии и Туве и т.д. При этом несомненный прогресс, достигнутый в целом по стране, во многом обесценивался попранием национального достоинства народов, лишением их самостоятельности. Русский народ страдал от произвола союзной бюрократии не меньше других.
Разного рода извращения и даже преступления, совершавшиеся под флагом интернационализма, столь велики, что чуть ли не каждый пишущий на национальные темы автор, естественно, спешит отмежеваться от этого понятия. Но вправе ли мы зачеркивать гуманистическое содержание идеи солидарности людей, народов во имя общего блага? И в то же время правомерно ли называть интернационалистской политику, бросившую вызов идее нации, ее неотчуждаемым правам, освящавшую иерархию наций в противовес ею же декларированной концепции равноправия народов и их свободного сотрудничества?
Разговор об аутентичном интернационализме – отдельная тема. «Интернационализм, – писал, например, Петр Струве, – может быть двух типов: интернационализм мирный или пацифистский, призывающий нации к примирению и объединению во имя какого-то высшего единства, и интернационализм воинствующий или классовый, призывающий к расчленению мира не на нации, а на классы, враждебные друг другу». Только научно обоснованный и тесно связанный с национальными интересами интернационализм в состоянии преодолеть изначальную противоположность национального и общечеловеческого и придать перспективное направление устремлениям классов и наций.
И если рассматривать судьбы России не с местной колокольни, а в интернациональной перспективе, то вполне правомерно признать подлинным ее самоопределением самоутверждение в качестве могучей евразийской державы. Это будет сообщество множества равноправных народов, осознающих свою принадлежность к единому государству и скрепляемых не национально-этнической, а цивилизационной исторической общностью.
Вряд ли идеологией российского сообщества может быть национализм или даже «просвещенный национализм», на который уповают иные либерально ориентированные теоретики и практики современной России, для которых «интернационализм» и «тоталитаризм» – идентичные понятия.
На рубеже двух тысячелетий именно философия интеграционизма, органически вытекающая из концепции интернационализма, открывает перспективы прогресса и процветания для всех народов мира. А любая национальная ограниченность, в какие бы одежды она ни рядилась, – это вчерашний день. Здесь есть над чем задуматься и патриотически настроенным россиянам, стремящимся, избегая ошибок прошлого, искать новые пути достижения межнационального и международного мира.
Раньше считалось, что пропаганда интернационализма, идей дружбы народов – неустанная и широко поставленная – решает все основные задачи в сфере национальных отношений. Сформулировать, скажем, на партийном форуме хороший лозунг, а затем запустить его в средства массовой информации и изо дня в день проворачивать – вот к чему зачастую сводились усилия людей, отвечающих за этот участок. Мы привыкли к такому лозунговому интернационализму, часто не отдавая себе отчета в том, что речь шла лишь о формальном, поверхностном восприятии пусть даже гуманных и прогрессивных норм. Глубинный же слой накопившихся за долгие годы негативных установок, стереотипов и подчас предубеждений против того или иного народа или этнической группы оставался нетронутым, не подверженным воздействию положительных установок. Он-то и давал о себе знать в критический период. А мы удивлялись, почему это происходит там, где, казалось бы, давно уже утвердились идеи дружбы народов. Такая ситуация была характерна и для Кавказа.
Вряд ли правомерно характеризовать этот регион как «пороховую бочку», заранее настраивая россиян на бессмысленность каких-либо усилий по нормализации сложившейся здесь ситуации. Уникальность этого района как раз и состоит в том, что, несмотря на сложную и подчас кровавую историю, на Кавказе исторически складывались традиции мирного сожительства и братских отношений десятков народов с различными культурами, языками, религиями, психологией. Того, кто приходит сюда с миром и добром, неизменно встречают не только с традиционным гостеприимством, но с подчеркнутым уважением и любовью. Национальная гордость и честь, обостренное чувство национального достоинства, горячий темперамент, несгибаемая стойкость, верность традициям, завещанным предками, уважение к сложившимся демократическим институтам и процедуре решения споров, в частности, к мнению старейшин – таковы типичные черты характера этих народов.
Уже географическое положение Кавказа между Черным и Каспийским морями, на стыке древнейших очагов культуры, через территорию которого проходил «Великий шелковый путь», превратило этот регион в плацдарм ожесточенной борьбы. Соседние державы натравливали друг на друга его народы, десятки раз перекраивались здесь границы между государствами, ханствами и княжествами. Вековой исторический опыт приводил лучших людей Кавказа к пониманию пагубности межнациональной вражды.
Примечательны слова армянского поэта и писателя Ованеса Туманяна из статьи «В тумане недоразумения», опубликованной еще в 1909 г. и касающейся межнациональных столкновений в Закавказье. Считая, что ненависть, которая порой охватывает массы, происходит главным образом от взаимного непонимания и, ссылаясь на «простоту и доброту русского человека, чистосердечность грузина, рыцарство тюрка», он с полным основанием продолжал: «Все эти свойства мы должны замечать у других народов и подходить к ним с открытым, чистым сердцем. И если мы вот так, без предубеждений подойдем к самому простому человеку из народа, то непременно обнаружим у него гораздо больше черт, достойных любви и уважения, чем у иных видных представителей этих народов. И так обоюдно. Все доброе может обнаружиться только при добром, любовном отношении, но никак не при бряцании оружием!..» Являясь страстным поборником дружбы народов Кавказа с Россией, Туманян в той же статье приветствовал инициативы русских деятелей с целью «сближения народов на мирной культурной почве».
Вести плодотворный диалог с народами Кавказа значит решительно отмежеваться от былых попыток установить господство над ними или даже ту или иную форму патернализма, мотивируя эту политику цивилизаторской, христианской или интернационалистской миссией. И если идет речь о законном стремлении россиян сохранить территориальную целостность России, то надо, стало быть, наряду с борьбой против агрессивного национализма всерьез думать о завоевании умов и сердец не пресловутых «лиц кавказской национальности», а гордых сынов и дочерей Кавказа.
События последних десяти с лишним лет принесли этим людям не только горе и страдания, но и пробудили в них никогда не умирающую надежду на национальное возрождение. Национальная идея стала знамением времени. С ней связываются все надежды на лучшее будущее. Было бы опаснейшим заблуждением объяснять этот сложный национальный феномен кознями националистов и сепаратистов. Нет, она попала на взрыхленную почву, в ней выражена реакция народа на длительное ущемление, а то и попрание его достоинства. Разобраться в существе этой идеи, отобрать из нее то, что действительно дорого сердцу нации, отбросив все то, что навсегда ушло в прошлое, возродить национальные ценности, воплотить их в жизнь – такова задача.
Между тем, возникли межнациональные распри, которые привели к противостоянию различных национальных групп. Но ведь такое противостояние не только бесперспективно, но и бессмысленно. Тот, кто одержит верх в межнациональном споре, в конечном счете, скорее всего, проиграет. Потому что «побежденные» будут продолжать жить вместе с победителями и вынашивать стремление отомстить обидчикам. Так не лучше ли сделать так, чтобы никто не держал камня за пазухой?
В росте национального самосознания велика роль интеллигенции, особенно той ее части, которая непосредственно связана с национальной культурой, языком, художественным творчеством, историей. Но деятельность этих слоев общественности неоднозначна. Национальная ограниченность тех или иных лиц имеет пагубные последствия для нации, значительная часть которой некритически воспринимает и увлекается псевдонациональными лозунгами. Отсюда недоверие к другой нации, которое становится частью встревоженного национального самосознания.
Вот любопытный факт. Председатель совета Карачаево-Черкесского регионального отделения общественной организации «Миротворческая миссия на Северном Кавказе» И. Пунченко, рассказывая о подготовке к выборам руководителя республики, отмечал, что избиратели при этом взвешивают не только деловые качества претендентов, их авторитет в регионе и в российском масштабе, отношение к людям. «Для нас, жителей многонациональной республики, не менее важным, если не самым главным, является то, каких принципов межнациональной политики придерживается претендент, будет ли он одинаково благожелательно решать проблемы всех народов или вобьет клин в наши добрые отношения друг с другом... Считаю: нельзя быть руководителем в национальном регионе, будучи далеким от понятий интернационализма».
Какая же сила толкает народы на противостояние и конфликты? Социология и этнополитология выдвинула понятие этноцентризма, без которого не обойтись при анализе психологии межнациональных отношений. Это присущее этносам чувство извращенной групповой солидарности, основанной на безоговорочном признании «верховенства» ценностей своего народа и предвзятом, необъективном отношении к ценностям других народов. Свой народ находится, с точки зрения приверженцев такого образа мышления, как бы в центре вселенной. Отсюда высокомерие, недоверие и даже враждебность к чужакам. «Мы» и «они» – это не просто констатация пестроты этнической карты современного мира. Это попытка провести водораздел между народами, якобы обреченными на вечное противостояние. Неудивительно, что у представителей того или иного этноса в изобилии ходячие характеристики народов – поверхностные, стандартизованные суждения и установки, как правило, эмоционально окрашенные стереотипы.
Подчас они содержат элемент информации о традициях или духовном облике народа. Однако их опасность в том, что люди некритически, механически усваивают эти упрощенные характеристики и в своем поведении по отношению к представителям тех или иных этносов исходят именно из этих предвзятых представлений, как правило, выдержанных в резких черно-белых тонах. Так формируется стойкий «образ врага». Психологически он помогает оправдать любую акцию, в том числе агрессию по отношению к другим народам, способствует укреплению групповой солидарности, сплоченности нередко на националистической или шовинистической основе. Политически -создает такую атмосферу в обществе, которая оказывает пагубное влияние на принятие решений.
Примечательно, что создаваемое таким образом умонастроение помогает деятелям популистского толка направлять энергию масс на сомнительные действия. При этом сама этноцентристская позиция становится мерилом благонадежности этого деятеля и может обеспечить ему успешную карьеру, победу на выборах и т.д. Не будучи компетентными профессионалами в области политики, они зачастую одерживают над ними верх именно благодаря умело выдвигаемым и энергично отстаиваемым заимствованным из этноцентризма популистским лозунгам. Начиная с того момента, когда в сознании народа укрепляется представление об иной нации как о враге, ее рассматривают под враждебным углом зрения независимо от ее фактического поведения. При этом задача лидера, который хочет быть популярным, любимцем толпы, в навешивании как можно более оскорбительных ярлыков на чужаков с целью оправдать враждебные по отношению к нему акции.
«Негативные стереотипы, хотя они непосредственно, быть может, и не ведут к этническому конфликту, – пишет Л. Баррингтон, – несомненно предшествуют ему… Если налицо такие стереотипы… работа представителей той или иной элиты по демонизации этнических чужаков значительно облегчается. И, с другой стороны, если главные этнические группы позитивно оценивают друг друга, то перспективы этнического мира и сотрудничества повышаются».
Чтобы понять механизм национального поведения особенно в период крайнего возбуждения психики народов, необходимо обратиться к трудам таких социальных психологов, как Г. Лебон и Г. Тард. Они раскрыли механизмы манипулирования общественным мнением. Примечательна в этом отношении книга «Царство толпы», впервые изданная в 1917 г. на материалах Французской революции 1789-1793 гг. Переизданная в 1990 г., она служит грозным предостережением современникам.
На примере событий вокруг Сумгаита и Баку, Тбилиси и Цхинвала, Оша и Ферганы мы убедились, сколь опасна стихия толпы. Психология ее, однако, давно уже не является тайной. «Толпа не рассуждает, она повинуется только своим страстям. Она не признает авторитетов и пойдет только за теми, кто обещает ей новую иллюзию. Без иллюзий человек не может жить. Наука не может ему дать этого». И еще: «Чтобы иметь успех у толпы, надо бить ее по нервам, оглушить ее и, не дав ей времени опомниться, сейчас же собирать голоса. Так обыкновенно и делают, составляя тут же адреса, подписи, единогласные постановления и резолюции».
Знакомая картина, не правда ли? Долгие десятилетия у нас готовились идеологи, искушенные в различных областях обществоведения, имеющие богатый опыт выступлений в различных аудиториях. Однако мы не научились искусству вести дело с массами людей, одержимых идеей фикс. Особенно если речь идет о национальных регионах. Мы уповали лишь на логику и рациональность, живущую в каждом здравомыслящем человеке. Наша ошибка, возможно, состояла в недооценке иррационального начала, которое дает о себе знать в нестандартных ситуациях. Опыт последующих лет говорит о случаях массового психоза, охватывающего значительную часть представителей той или иной нации. Иной раз достаточно искры, выкрика демагога, популистского лидера, чтобы направить толку на разрушительные действия. К доводам рассудка здесь зачастую не прислушиваются. И такие демагоги находятся.
Немецкий писатель – антифашист Бодо Узе, описывая публичные выступления фашистского демагога Штрейхера, раскрыл механизм воздействия антисемитской пропаганды на эмоции масс.
«Он не говорил, он кричал: расовая проблема является ключом к пониманию мировой истории. Нашим несчастьем являются евреи. Это была совсем другая мелодия, чем старый скучный антисемитизм. Это был антисемитизм свежий как пиво, только что принесенное из погреба. Выступления Штрейхера были сенсациями, приводившими слушателей в исступление.
Массы мелких буржуа визжали от восторга. На выступления Штрейхера приходили женщины, которые никак не могли (из-за инфляции в Германии того времени. – Э.Б.) научиться подсчитывать астрономические цифры при покупке картофеля и никак не могли понять, почему их кухонные горшки остаются пустыми, хотя их мужья работают день и ночь. Они думали, что этот гигантский обман раскрыт Шрейхером, что они могут, наконец, поймать за шиворот тех, кто их обманывает, ибо Штрейхер, назвав евреев, показал им виновников их несчастий».
Нынешние же демагоги, указывая на чеченцев, армян, азербайджанцев, осетин, абхазов, грузин, евреев, русских, мусульман, католиков или православных и т.д. внушают массам: вот причина ваших страданий. Найден «козел отпущения», и дальше срабатывает известный механизм, приводящий к погромам и анархическому безрассудству. Видимо, нам надо создавать новую отрасль социальной и национальной психологии – социальную психиатрию. Она вырабатывала бы нормы и методы обращения с группами людей, охваченными болезненными комплексами. И не только убеждала бы ту или иную группу людей в бессмысленности замышляемых акций, но и «врачевала» их, перенося огромную энергию в социально дозволенное и безопасное русло.
Сожительство народов с разными культурами, конфессиями, характерами требует от них чувства терпимости к окружающим этносам, того, что принято называть толерантностью. Речь идет об образе мышления и действиях, исключающих применение сторонами даже в конфликтных ситуациях силы. В условиях межэтнической напряженности, там, где нет возможности устранить причину конфронтации, толерантность – единственное разумное средство закрепить за каждым этносом его неотъемлемое право сохранить привычный уклад жизни, этнокультурную идентичность, традиции, верования, язык, не допуская их насильственного уничтожения – этноцида. Состояние взаимной разъединенности конфликтующих сторон – вынужденное и часто неестественное, но оно лучше военных действий. Именно толерантность позволяет возобновить диалог сторон и, в конечном счете, нормализовать их отношения.
В связи с этим привлекает внимание заявление группы российских ученых, направленное в редакцию журнала «Евразия. Народы. Культуры. Религии» и ряд других органов печати, в котором поднимается вопрос о научных критериях в подходах к межнациональным отношениям:
«Закономерный отказ от всевозможных извращений и наслоений, связанных с ошибочной трактовкой интернационализма в предшествующий период, не сопровождался выработкой и утверждением научных критериев в межнациональных отношениях. В результате вместе с «мыльной водой был выброшен и ребенок», создался идейный вакуум, сплошь и рядом заполняемый откровенным шовинизмом и ксенофобией. Общественность нередко приучают к взгляду на межнациональную рознь и враждебность как на естественное состояние жизни общества. Объектом травли становится та или иная группа людей, или целая нация. С экранов телевизоров, кинотеатров, из репертуара театров, литературных публикаций фактически ушла некогда популярная в массах тема достижения межнационального мира и согласия, дружба народов. Дилетантизм в этих важных вопросах, допускаемый иными средствами массовой информации, в условиях нашей страны и граничащий с полной безответственностью, чреват искусственным разжиганием межнациональных конфликтов».
Распространение объективных научных знаний об истории, культуре, традициях народов позволило бы преодолеть разного рода стереотипы, то есть шаблонные характеристики духовного облика народов, многие из которых укоренились в сознании многих людей как весьма стойкий предрассудок. Отметим, что уже один факт их широкого распространения делает актуальной науку – народоведение, национальную психологию.
Национальный характер – стержень психологии нации. Он заключает в себе привычные формы поведения, эмоционально-психологического реагирования на окружающие предметы, определенные ценностные ориентации и вкусы. Будучи продуктом взаимодействия многих факторов в их социальном развитии, в том числе и тех, которые обладают относительной исторической стабильностью (сложившееся разделение труда в данных социогеографических условиях, определенные культурные традиции, некоторые институты семейно-бытовых отношений), национальный характер придает определенную специфику духовной деятельности народов, манере восприятия ими тех или иных явлений и реагирования на окружающий мир.
Исторические особенности Кавказа и сохранившаяся в сознании ряда народов обида на репрессивную политику царизма, а затем и сталинского режима, длительное отсутствие научно обоснованного политического курса Центра по отношению к Кавказу, волюнтаризм и случаи прямого попрания прав народов – все это сделало Кавказ очагом межнациональной напряженности. При этом в сознании и поведении значительной части населения сохранились, как отмечалось выше, традиции дружбы и уважения как во взаимных отношениях, так и по отношению к русскому народу. Иными словами, Кавказ и поныне открыт для честной политики и отнюдь не безнадежен с точки зрения нормализации там межнациональных отношений.
Россия по-прежнему нуждается в масштабной идее, которая могла бы обосновать и наши особые отношения с народами Кавказа. Теперь, после того, как суверенитет стал явью, все сильнее дает о себе знать естественное стремление народов сохранить, несмотря на распад великой державы, ту общность, которая дает нам некую перспективу и делает осмысленным пройденный нами исторический путь.
«Модель современной российской идентичности должна исходить из того, что Россия по своим социальной структуре, культуре, этнонациональному и многонациональному менталитету и духовному складу не принадлежит ни к Европе, ни к Азии, а представляет собой самобытную цивилизацию мирового значения».
В нынешнем идейном вакууме и состоянии неопределенности в том, что касается наших социально-политических ориентиров, евразийская идея, разумеется, истолкованная в современной духе, – немаловажный довод, способный не только обосновать курс стран Содружества на интеграцию, но и воспрепятствовать распаду России вслед за СССР. И это не благое намерение. Укажу на объективные признаки того, что мы называем евразийской общностью народов.
Это, во-первых, общее географическое пространство. Во-вторых, общие исторические судьбы. В-третьих, сходные геополитические интересы. В-четвертых, сохраняющиеся экономические связи, наследие создававшегося десятилетиями единого народно-хозяйственного комплекса, из которого нужно взять все положительное. В-пятых, своего рода синтез культур множества народов, издавна населявших Россию, при сохранении их национальной самобытности. В этом, кстати, отличие евразийской идеи от американской концепции «плавильного котла», так и не состоявшейся в силу стремления народов сохранить свои этнические корни даже в рамках единой нации. В-шестых, русский язык как язык межнационального общения, пока еще пользующийся признанием, в том числе на Кавказе. И, наконец, в-седьмых, религиозная и межнациональная терпимость народов Евразии, которая, несмотря на печальные события последнего десятилетия, все же составляет безусловную ценность упомянутой общности, наше важное историческое достояние.
Таким образом, речь идет не просто о совокупности тех или иных преходящих социально-политических факторов, влияющих на выбор Россией своего пути и своих союзников и партнеров, а о факторах устойчивого историко-цивилизационного характера, благодаря которым Россия и СНГ, раскинувшиеся на огромных пространствах Европы и Азии, смогли соединить в себе Запад и Восток.
Русский народ и другие народы России никогда не кичившиеся своей этнической «чистотой», только выиграют, свободно взаимодействуя с другими народами. И вопреки опасениям некоторых авторов, не растворятся в политэтническом мире. Но, конечно, нам чужды идеи «старшего» и «младшего» братьев. Наша цель – сообщество свободных и равноправных, верных своим национальным идеалам народов – славянских, тюркских, кавказских, монгольских, финноугорских и т.д. Полагаю, что они способны создать, быть может, новую евразийскую цивилизацию, благодаря которой Европа и Азия получат новый стимул для творческого взаимодействия.
Недавно мне довелось прочитать издаваемый в Турции журнал «Евразийские исследования», который выходит на английском, турецком языках, а также на языках тюркских народов бывшего Советского Союза. В нем в академическом духе освещаются современные историко-культурные, этнические и геополитические проблемы Евразии, при этом четко и недвусмысленно утверждается, что центром Евразии была и остается именно Турция.
Таким образом, в то время как мы продолжаем споры по поводу евразийской идеи и ее соответствия российским геополитическим интересам, эта идея уже взята на вооружение соседней страной, преследующей, разумеется, свои интересы и отнюдь не пренебрегающей возможностью расширения сферы своего культурного и иного влияния на постсоветском пространстве.
Возникает вопрос: не утрачивает ли наше общество вместе с былой концепцией «новой исторической общности людей» и то чувство сплоченности, дружелюбия, добрососедства, которые исконно были свойственны русскому и иным народам нашей страны. Отвергая мнимые ценности казенного интернационализма, наша печать, наука обратились к национальной идее, что вполне естественно. Но при этом надо знать меру: в менталитете русского народа никогда не было заметного национализма, зато сохранились от поколения к поколению традиции взаимопомощи, соборности, солидарности.
Сейчас особенно важно подчеркнуть значение солидарности людей, народов. И это сделал в апреле 2006 г. – Русский православный собор в Москве. Вместе с идеей свободы солидарность – важнейшая часть демократического сознания. Это относится ко всему человечеству, вступившему в третье тысячелетие не только с грузом социально-экономических, национально-этнических, экологических и иных проблем, но и с обновленными надеждами. Это и императив для нас, жителей России и Кавказа, познавших на собственном опыте пагубность разобщения и преимущества добровольного объединения, интеграции.
В разделе:
- Юрий Лужков
- Ахсарбек Галазов
- Людмила Швецова
- Валерий Гергиев
- Юрий Башмет
- Ширвани Чалаев
- Евгений Трофимов
- Белла Ахмадулина
- Виктор Федоров
- Владимир Соскиев
- Маргарита Лянге
- Андрей Битов
- Фазу Алиева
- Вячеслав Михайлов
- Элина Быстрицкая
- Мовсар Минцаев
- Яков Гордин
- Елена Камбурова
- Хажбикар Боков
- Жибек Сыздыкова
- Юрий Карпов
- Муса Дудаев
- Шапи Казиев
- Борис Коркмазов
- Эдуард Баграмов
- Александр Эбаноидзе