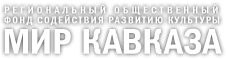Источник: Сборник "Фазиль Искандер. Избранные произведения" , "Мир Кавказа", 2010
Дмитрий Быков
В шестидесятники он не попал — не столько по возрасту (год рождения подходящий, 1929), сколько по особому устройству мировоззрения. Ни к шестидесятнической эйфории, ни к шестидесятническому же отчаянию после 1968 года он не был склонен, потому что само устройство его психики иное: Искандер основателен, он сангвиник, а не холерик, и впадать в беспричинный восторг для него так же противоестественно, как отчаиваться. Он кое-что повидал, за плечами у него огромный опыт народа, который видал еще и не такое, — как всякий человек традиции, он чувствует опору более надежную, чем политическая конъюнктура или личное везение. Народ — особенно малый, с богатым и трудным опытом выживания, особенно кавказский, с традицией сдержанности и этикета, — относится к современности спокойнее, без иллюзий; внешние обстоятельства мало трогают тех, кто за всю вечность не слишком изменился и мерками этой вечности меряет все. И потому время Искандера наступило по-настоящему не в шестидесятые, а в семидесятые, когда были востребованы совсем иные качества, которых, собственно, он и пожелал читателю в финале лучшего, кажется, своего рассказа (он вошел потом в повесть «Стоянка человека») «Сердце»: «Терпения и мужества, друзья». Впрочем, ведь и Трифонов, и Аксенов, и Казаков (разумею немногочисленные, но прекрасные поздние рассказы) лучшее свое написали в тех же семидесятых, когда многое виделось лучше, трезвее, точнее.
Подлинный же масштаб Искандера стал ясен во второй половине восьмидесятых, и связано это было не столько с полной публикацией трехтомного «Сандро», сколько с возвращением России в мировой контекст. В силу разных обстоятельств она из него выпала почти на сто лет: дело было не в железном занавесе — сквозь него многое пробивалось, — но в специфике советской жизни, вызывающе непохожей на прочую. У советских были свои проблемы, мало понятные за границей, — нам же казались надуманными роковые вопросы, терзавшие европейцев, американцев, латиноамериканцев... Только в восьмидесятых вдруг оказалось, что и России — тогда еще СССР — предстоит столкнуться с главным вопросом ХХ века, а именно с противостоянием модерна и архаики, с возможностью (или невозможностью) сосуществования архаических и христианских культур, с вечным антагонизмом Востока и Запада. У нас все это либо принимало специфические формы, либо отсутствовало вовсе — поскольку СССР поставил вне закона национализм и упразднил религию, оставив ей чисто представительские функции. В восьмидесятые на нас лавиной обрушились проблемы, над которыми Запад бился в последнее столетие, и главной из этих проблем оказалась пресловутая несовместимость христианства и варварства, а также неистребимое противостояние Востока и Запада. Оказалось, что «с места они не сойдут» даже в эпоху глобализации; что до конца истории еще куда как далеко; что после развала и краха СССР Запад лицом к лицу оказался с варварством куда менее цивилизованным и более опасным, — и 11 сентября 2001 года доказало это окончательно. Впору было закручиниться по империи зла, противной, нет слов, но предсказуемой и вдобавок дряхлой.
Архаика, в общем, хорошая вещь — в том смысле, что для архаического характера священны понятия чести, незыблема внутриклановая (родственная, земляческая) солидарность, сказанное слово весит не меньше, чем сделанное дело... О неизбежности поголовного увлечения архаикой в поисках новой серьезности говорил незадолго до смерти Илья Кормильцев — и оказался прав: разочаровавшись в западной цивилизации, которую лишь весьма условно можно сегодня назвать христианской, интеллектуалы еще в конце шестидесятых обратились к Востоку в поисках ответов. Отсюда почти поголовное полевение западной профессуры, сочувствующей палестинцам больше, чем израильтянам; отсюда любопытство к Африке, мода на латиноамериканскую прозу, на дзен, на Индию и Китай, на возврат к природе, прочь от растленной цивилизации... Все это было очень мило — и, может быть, неизбежно; но нельзя не увидеть в этом отката назад. Парадокс заключается в том, что Маркес, который на пике этой моды и сделался Нобелевским лауреатом (1982), как раз доказывает обреченность той самой архаики, пагубность изоляции, замкнутости, циклического развития — об этом не только «Сто лет одиночества» с их великой и пророческой последней фразой, но и «Осень патриарха» с той же ненавистью к бесконечному, вязкому времени. С Маркесом, кстати, вышло интересно: они оба с Искандером родились 6 марта, с разницей в год. Однажды Искандеру прислали рецензию на переведенную в Штатах книгу повестей. Чтобы прочесть ее лично, он титаническим усилием вспомнил изученный когда-то английский. «Но результат того стоил», — усмехался он в интервью. В рецензии было написано: «Всюду слышим: «Гарсиа Маркес, Гарсиа Маркес»... Между тем, Фазиль Искандер не хуже, а в лучших своих сочинениях значительно превосходит его».
Так оказалось, что всю свою жизнь Искандер пишет, в общем, на главную тему последнего столетия человеческой истории; главное противостояние не между капитализмом и коммунизмом, которые обречены конвергировать и во всяком случае договороспособны, а между двумя типами цивилизаций. Искандер первым в ХХ веке вдумчиво и глубоко описал кавказский характер и попытался нащупать его перспективы. Он показал и его силу, и его слабость, и тенденцию к вырождению, и шансы избежать этого вырождения. Главное же — он нащупал возможность компромисса, некоей общей для почвенников и западников святыни. Это идея дома, одинаково важная и для Востока, и для Запада. Дому как оплоту морали, совести, чести посвящена последняя крупная проза Искандера, «Софичка», венчающая этот сборник. Вероятно, в современной русской литературе мало найдется текстов, над которыми плачешь, — но финал, в котором Нури в кухне Большого дома смотрит на кривотрубые пароходы, нарисованные им в детстве на стене, без слез читать не сможет и самый сдержанный читатель. Помнится, я спросил однажды Искандера: ведь это выдумать нельзя, скажите, вам рассказал кто-то? «Нет, корабли выдумал».
Это в «Софичке», самой поздней и, вероятно, лучшей своей повести, написанной с той простотой и стремительностью рассказа, какие встречались разве у позднего Толстого да в Библии, Искандер спел гимн огню, очагу, идее дома: «Вполне вероятно, что идея дома впервые возникла в голове человека у костра. Сначала крыша, чтобы защитить костер от непогоды, а потом по той же причине и стены, а потом человек назвал домом место, где его костер защищен со всех сторон, и сам он защищен в том месте, где защищен костер. Идея дома — костер. Хозяин идеи — костер. Путем не слишком долгих манипуляций в историческом плане цивилизация незаметно изгнала из дома костер. Хозяина дома изгнала из дома, выдав дому некоторое количество удобных заменителей костра.
Что же сейчас собирает семью и близких семье людей вместо домашнего очага? Алкоголь или телевизор. Иногда, как бы чувствуя собственную недостаточность, они действуют вместе. Люди пьют и одновременно посматривают телевизор. Или смотрят телевизор и одновременно попивают. Кайф? Диалог в семье заменился монологом телевизора. У очага мы жили сами, а теперь вынуждены жить отраженной в стекляшке чужой жизнью, в которой ничего изменить нельзя.
И потому так радует нас, как начало нашего выздоровления, живой огонь костра, выжигающий из наших душ мусор суетных и тщеславных забот. И да здравствует костер с печеной картошкой, с ухой или шашлыком! Да и без всякой еды радует нас вечно молодое, веселое пламя, мы тянем к его струям руки и, может быть, сами того не осознавая, молимся:
— Господи, вот мы снова у костра, с которого все начиналось. Мы забыли все неудачи и все несправедливости нашей жизни! И ты забудь! Мы забыли позор нашей истории и наш собственный позор! И ты забудь! Дай, Господи, грешному человеку еще одну попытку! Господи, дай! Мы только начинаем жить! Мы у костра!»
Не знаю, было ли в русской прозе что лучше за последние двадцать лет. Разве что рассказ того же Искандера «Гусеницы», тоже поздний, о том, как перед самой войной 1994 года в Абхазии появилось страшно много гусениц, словно природа с ума сошла, — а скоро и люди начали сходить с ума, и молодой герой рассказа погиб, исчез бесследно.
Дом — синтез долга и милосердия, доброты и закона, компромисс для самых непримиримых. И эту идею дома, объединяющего всех, — одинаково святую для кавказцев и русских, — Искандер внес в русскую литературу, яростно отстаивая то самое право на дом, которое советская власть подвергла наиболее радикальному сомнению. Дом был объявлен предрассудком, рассадником мещанского быта, население распихали по общежитиям, гоняли по командировкам, по целинным землям, поэтизировали дух скитальчества, охоту к перемене мест — в то время как человек жив идеей дома, который в прозе Искандера всегда символизирует мораль, твердую и прочную основу бытия. Искандер все отлично понимает про родной ему кавказский характер, про изнанку архаики, про ее повышенное внимание ко всему имманентному и врожденному, про ее зацикленность на ритуалах — и потому предлагает усвоить лучшее, что есть в архаической культуре: понятия долга и чести. Он больше, чем кто бы то ни было, сделал для того, чтобы одомашнить эти суровые понятия, привить их читателю в самом обаятельном варианте — через идею очага, семьи, родства. Свойствен Искандеру и культ жеста — «мир, в котором еще осталась полнота жеста, может быть и сам, по чертежу этого жеста, постепенно восстановлен во всей его полноте». Разумеется, эта склонность к жесту приводит иногда и к демонстративности, и в кавказском характере ее хватает, — но без этой склонности нет эстетики. Искандер — мастер речевого жеста, точной фразы, афоризма, убийственной реплики; в прозе его, на первой взгляд многословной, с ее намеренными ритмическими повторами, витиеватыми описаниями и подробно-ироническими разъяснениями мелочей, без которых консервативный характер немыслим, — на каждом шагу встречаются мгновенные уколы точности, эти внезапные поэтические формулы, чеканные и незабываемые. Взять хоть из той же «Софички» — «В тишине над ней долго жужжал какой-то шмель, назойливо напоминая ей о великой мелочности вечности».
***
Иные скажут: чтобы так чувствовать русский язык и выдавать порой столь внезапные формулировки, нужно знать его, как родной, и все-таки быть немного чужаком. Может быть, Искандер и впрямь лучше чувствует возможности русского языка потому, что, хоть и знал его с детства, рос в двуязычной — даже и трехъязычной, считая грузинский, — пестрой среде. Во всяком случае, мелодика его прозы — кавказская, замедленная, нарочито вязкая; его слог, стремительный в описании перепалок, драк, погонь, — словно засахаривается, когда дело доходит до тостов, пейзажей, воспоминаний детства или неспешно-сладостных рассуждений о вечном.
Как хотите — мало что в русской литературе сравнится с одиннадцатой главой «Сандро». «Тали — чудо Чегема» — это ведь еще и чудо искандеровской прозы, спокойной, уверенной, сильной, как старый Хабуг и его мул, но при этом воздушной и страстной. Тот эпизод, где Тали ждет первого свидания, то отступление, когда автору среди горного леса, среди цветущей природы привиделся Бог, — проза поистине симфонического звучания; не зря Искандер высказал однажды крамольную, но абсолютно точную мысль о том, что истинная вера сродни музыкальному слуху и от морали никак не зависит.
«В этот еще свежий зной, в этот тихий однообразный шелест папоротников словно так и видишь Творца, который, сотворив эту Землю с ее упрощенной растительностью и таким же упрощенным и потому, в конце концов, ошибочным представлением о конечной судьбе ее будущих обитателей, так и видишь Творца, который пробирается по таким же папоротникам вон к тому зеленому холму, с которого он, надо полагать, надеется спланировать в мировое пространство.
Но есть что-то странное в походке Творца, да и к холму этому он почему-то не прямо срезает, а как-то по касательной двигается: то ли к холму, то ли мимо проходит.
А-а, доходит до нас, это он пытается обмануть назревающую за его спиной догадку о его бегстве, боится, что вот-вот за его спиной прорвется вопль оставленного мира, недоработанного замысла:
— Как?! И это все?!
— Да нет, я еще пока не ухожу, — как бы говорит на этот случай его походка, — я еще внесу немало усовершенствований...»
Как божественно свободен, как счастлив был Искандер, когда писал это! Как передается это читателю! Какое сочетание силы и слабости, неуверенности и творческого восторга прошивает насквозь и этот фрагмент, и все его лучшие страницы! Интеллигентная походка творца — чего лучше, какой еще автохарактеристики желать?
***
Искандер не очень любит давать интервью, ибо, как уже сказано, понимает вес слова. Над бумажным листом можно думать долго, в разговоре приходится реагировать быстро. Однако сейчас, по случаю восьмидесятилетия, ему пришлось разговориться; в гости к нему, с разницей в один день, явились мы с Игорем Свинаренко. Оба мы, встретившись потом, поразились искандеровской форме: 80 лет — а у него разве что чуть замедлилась речь, и всегда не слишком торопливая. Но образы, но память, но мгновенно рождающиеся формулы, но бесстрашие перед лицом возраста и обстоятельств! Вот что значит на протяжении многих лет давать голове работу: тренированный мощный мозг не желает считаться ни с возрастом, ни с грузом неизбежных тревог и разочарований. Искандер сказал много исключительно дельных вещей, но поразили меня две.
Я спросил, отчего большинство русских сатириков и юмористов южане: Гоголь, Чехов, Аверченко, Зощенко (родился в Петербурге, но корни полтавские), Ильф и Петров, Катаев, Жванецкий, Данелия, сам Искандер?
— Черт, забавный вопрос, мне в самом деле его никогда не задавали – будем рассуждать. Полагаю, главная причина – некоторый шок южанина, попадающего в Россию: шок от почти всеобщей недоброжелательности. Жесткость, угрюмость... Заметьте, это ведь все были люди из тесных и дружественных общин: все в Полтаве и Одессе знали друг друга, не говоря про Чегем. При этом Одесса или Тбилиси – отнюдь не провинция, большие города, но отчего-то на встречного не смотрят как на врага. И вот эти люди попадали в холодные русские столицы, и единственным способом смягчить их суровость представлялся им юмор – поначалу мягкий, как «Вечера на хуторе», потом все более горький... Видимо, другого способа смягчить русскую жизнь у южан попросту не было: они вынужденные юмористы. Потом, чуть попривыкнув, многие от юмора отходили – как Гоголь, подавшийся в моралисты.
— Откуда в России эта угрюмость?
— Полагаю, от двух причин: во-первых, не будем недооценивать климат. На большей части России он суров, обе столицы пасмурны, ветер и мороз не располагают к доброжелательству. Во-вторых, рабство: без крепостного права Россия жила пятьдесят лет. В СССР господствовал классовый подход, но существует один класс, до определения которого не додумывался никакой Маркс. Этот класс – чернь, и главная его особенность в том, что в обычное время его не видно. В кризисные, переломные времена он выходит наружу, и тогда оказывается, что черни очень много. Переворот семнадцатого был классической революцией черни – рабов, для которых оптимальным состоянием является рабское, по полной их неспособности ни к какой деятельности, кроме доносительства и угнетения. Этот класс и сегодня влиятелен.
Вот чернь – она и есть главный источник недоброжелательства: она ненавидит всех, кто выше, и презирает всех, кто ниже. А просто улыбнуться встречному – это для нее непредставимо.
...Свинаренко — вероятно, лучший интервьюер нашего времени, — спросил не без подковырки: вас в последнее время часто называют мудрым. В чем, на ваш взгляд, разница между мудростью и умом?
Ответ Искандера был стремителен и блестящ.
— Умный, — сказал он, закуривая, — знает, как устроена жизнь. Мудрый же умудряется не раствориться в этом, то есть жить, мыслить и действовать вопреки этому знанию.
Лучшей формулы его литературного и человеческого успеха не придумаешь. Искандер не просто умен, — то есть не просто понимает механизмы мироустройства, — но способен сохраняться в этом потоке, не растворяясь в нем, и жить вопреки прагматическим законам. С точки зрения здравого смысла его самоосуществление и самосохранение — отдельное чудо; однако способность принимать всерьез только самые главные вещи, презрительно отметая то, из-за чего сходит с ума большинство, выручила его многократно. Кстати, и фундаментальная проблема, над которой он бьется всю жизнь, — проблема соединения архаики и современности, — вряд ли волновала большинство его современников, озабоченных то нехваткой свободы печати, то дефицитами, то политикой.
В 1979 году Искандер поучаствовал в «Метрополе» — двумя рассказами, ныне классическими; после разгрома альманаха у него рассыпали все книги, остановили все публикации и перестали приглашать на выступления. То есть он остался без средств к существованию, с женой и маленьким сыном на руках. Вдобавок Искандер начал слепнуть на один глаз — то ли от стресса, то ли от давления.
— И тут, — рассказывал он, хохоча заразительно и раздельно — ха! ха! — наступила полная беспечность. Я понял, что больше они у меня ничего не отберут и я совершенно свободен. Разве что посадят, но сажать они уже не хотели. Это вредило им самим. Было чувство, что достиг дна, и можно оттолкнуться. Пожалуй, я никогда не был так весел, как в эти полгода.
(А что он делал в эти полгода? Писал «Кроликов и удавов», восхитительно беспечную вещь).
***
Проза Искандера — одна из немногих опор русского читателя в современном мире, в котором все съехало с основ и держится на честном слове. Каждое слово Искандера — неизменно честное, веское и веселое, — возвращает читателю чувство, что мир стоит на прочной опоре и никуда не денется, и усилия наши по-прежнему имеют смысл.
Всем его коллегам — в большинстве своем, конечно, младшим, ибо Искандер вошел в патриаршеский возраст и проживает его достойно, с горским изяществом и стоицизмом, — гораздо легче становится от мысли, что каждое утро он садится за свой письменный стол и записывает стихи, афоризмы, публицистику, а то и прозу, если повезет. В этом есть благотворная незыблемость, но дело не только в этом. Казалось бы, он сделал достаточно — и для признания, и для бессмертия. Из мировой литературы уже не вычеркнешь дядю Сандро, восхитительного болтуна, хитреца, лентяя и труженика, ловкача и воина, танцора и пахаря; и старый Хабуг, и Тали, и даже несчастный козлотур, не дающий потомства, но увековеченный в уморительной повести 1966 года, — все теперь так же полноправны и полнокровны, как Тиль, Чичиков, Безухов, Швейк или Мелькиадес.
Но он работает — как дерево не может не плодоносить, как земля не может не родить, как гора не может не возвышаться над прискорбно-плоским окружающим пейзажем. Работа может быть естественной, как дыхание, и необходимой, как вода, — и он, вернувшись к юношескому увлечению стихами, пишет совсем коротко и просто:
Жизнь — неудачное лето.
Что же нам делать теперь?
Лучше не думать про это.
Скоро захлопнется дверь.
Впрочем, когда-то и где-то
Были любимы и мы —
А неудачное лето
Лучше удачной зимы.
Ну, раз Искандер работает, — все в порядке.
В разделе:
- Абаев В.И. "Миф и история в сказаниях о нартах"
- Бестужев-Марлинский А.А.
- Быков Дмитрий "Господи, мы у костра"
- Гордин Я.А. "Русский человек и Кавказ"
- Грибоедов А.С. "Путевые записки"
- Кундухов Мусса "Мемуары"
- Тахо-Годи М.А. "Кавказ и "кавказские пленники" глазами путешественников начала XIX века
- Хугаев Ирлан "Дальше на Восток"
- Цуциев Артур "Русские и кавказцы: по ту сторону дружбы народов"
- Шегрен Андрей "Путевые заметки"
- Шульженко Вячеслав "Русский Кавказ"