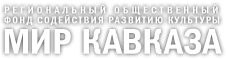Шульженко Вячеслав
из книги "Русский Кавказ"
БУДЕННОВСК-95: ОПЫТ ДЕКОНСТРУКЦИИ КОЛЛЕКТИВНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО
Прошло уже немало времени, а меня не покидает ощущение, что нападение террористов на Буденновск было направлено на уничтожение важнейших российско/русских символов: идеологических, геокультурных, религиозных и даже ландшафтных. До того что-то похожее виделось в разделе Севастополя, в бунте киевского расстриги Филарета, в холуйском угодничестве бывших «слуг народа», в маниакальном стремлении неофитов, пыжившихся предстать «западнее» самого Запада. Но происшедшее на юге страны в начале лета 1995 несоизмеримо с этим, ибо направление террористической атаки, толкуемого власть предержащими из понятных чувств как случайное, форс-мажорное, абсолютно немыслимое стечение обстоятельств представляется на самом деле совершенно закономерным, свободно интерпретируемым в категориях современных исследовательских практик.
Правда, возникает вопрос о правомерности взаимосвязи северокавказского террора и проблемы символической деконструкции бессознательного. Он, однако, снимается наличием двух моментов: этическим, воспринимающим событие в рамках грубейшего нарушения морального императива, и эстетическим, предоставляющим право поиска символической репрезентации этого события. То есть, «попробовать восстановить глубинный подслой символического» (4, 238)) в имеющемся у нас культурном и художественном опыте и, выявив его, снова вернуться к Реальному, чтобы проверить действенность символического. Уместно здесь напомнить, что Юнг строго различал символ и просто знаки или симптомы. Он писал: «…символ всегда предполагает, что выбранное выражение является наилучшим обозначением или формулой для сравнительно неизвестного. Его следует понимать как интуитивную идею, которая не может быть сформулирована иным или лучшим способом». В другом месте Юнг пишет: «… слово или изображение символичны, если они подразумевают нечто большее, чем их очевидное и непосредственное значение. Они имеют более широкий «бессознательный» аспект, который всякий раз точно не определен или объяснить его нельзя». (Юнг К.-Г.. Подход к бессознательному. В: Архетип и Символ. М., 1991. С. 25). Говоря современным аналитическим языком, символ – это бессознательное изобретение в ответ на сознательную проблематику, и Буденновск может быть истолкован как символ первоначального культурного кода – святой крест. Именно такое название носил город со дня своего основания до большевистской топонимической революции в начале 20-х годов.
Но прежде – о географической компоненте символического, ибо организатор нашествия Шамиль Басаев, как известно, учился на землемера, значит, геодезии и топографии не чужд. Учился, кстати, в эпоху другого и по своей первой профессии знаменитого землемера, Леонида Ильича Брежнева, который, помнится, так «замерил» (да простят меня фронтовики) Малую землю, что она превратилась сразу и в Брестскую крепость, и в поле под Прохоровкой, и в Мамаев курган, и ладожскую «дорогу жизни», и даже берлинский рейхстаг. Впрочем, Бог с ними, землемерами, суть в том, что даже для России, существующей разобрано, дискретно, наполненной поражающей всегда пустотой, характерна нерасторжимая связь города с территорией, окружающей и тяготеющей к нему. Буденновск - крупнейший русский населенный пункт на самом краю Великой Степи, упершейся в Кавказский хребет, который еще древними воспринимался естественной границей между Востоком и Западом. «Пустыня, претворившаяся степью», – это кажется сказанным Л. Юзефовичем не только о Монголии и затем почти дословно повторенное Ж. Бодрийяром в «Америке» о завораживающей силе пустыни, формирующей американское сознание Природы, но и о южно-российских рубежах. О них еще круче завернул в свое время Гоголь, для которого, например, Каспий - выродок Волги, плещущийся на дне невиданной в мире геологической впадины, есть область безумия. Не случайно в «Записках сумасшедшего» именно употребление этого нейтрального на первый взгляд топонима свидетельствует о полном торжестве болезни над психикой героя: «Люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится с ветром со стороны Каспийского моря». Так отчего ж Каспийского, а не Черного иль не Балтийского? Гоголь и сам не знает, но, как писатель, он тонко чувствует парадокс фразы: потому что именно там, откуда дуют каспийские ветры, никакого “мозга” да и вообще мыслей, которые могли бы образовать некий ветер, быть не может; там только мелководье, тростники, птица да осетры, пустыня, солончак, глина, чужбина и бессмысленный горизонт в расплавленной золотой дали...
Горы ставят преграду сквозному, вечно здесь гуляющему восточному ветру-времени, налетающему из азиатских пустынь, где он никак не может задержаться, зацепиться, ибо нет там ему никаких преград. Но это нисколько не мешает Буденновску находиться на оси межареальных связей, являясь точкой контактов различных зон, нарастания пространственной контрастности и одновременно опорным узлом района нового освоения (напомню, через современный Буденновск это основанный монголо-татарами крупнейший город Маджары, который стоял на знаменитом шелковом пути). Он, сошлемся на «теорию центральных мест» В. Кристаллера, занимает место центрального пункта шестиугольной решетки, которую составляют Левокумское, Нефтекумск, Курская, Зеленокумск, Благодарный, Арзгир. Четыре линии «буденновской» гексагональной системы опираются на мощный ростовско-ставропольский плацдарм, образующие же самый нижний угол две оставшиеся стороны соседствуют с Черными землями Калмыкии, Ногайской степью и предгорьями Чечни и Дагестана. Именно эти, в общем-то, мало пригодные для развития сельского хозяйства территории, не раз тем не менее и в царское время, и, особенно драматично, в советское подвергались административному переподчинению, становясь разменной монетой в проводимой Кремлем национальной политики.
Все тот же угол и поныне, в чем видится его современная актуализация, словно наконечник стрелы, вонзенный в сердцевину Северного Кавказа, вызывает саднящую боль лидеров мятежных чеченцев. Он представляется им основанием Святого Креста, чьим именем в самом конце ХУ111 века наречено было поселение близ реки Кумы. Согласно теории референции такие имена собственные не могут быть обойдены молчанием с точки зрения метафорического, экспрессивного и фиктивного употребления речи, и, значит, дескрипции (описания) их референтов допускают трактовку названия места не только в качестве всего лишь религиозной атрибутики. В нем одновременно и вызов Азии, и символ власти православной церкви и имперской претензии на всемогущество и вечность. Парадокс, но аналогичным образом трактуется и окказиональный денотат Святого Креста – Буденновск, также олицетворяющий пусть иную, уже советскую, но все равно империю, как очевидную позитивную ценность, естественную форму, которую желательно было принять социально-политической организации общества.
Формирование геополитического пространства Российского государства, напомню, это сложный и длительный этнический, идеологический, военно-стратегический, экономический, религиозный и социокультурный процесс. Обоснование исторической предопределенности влияния России на Кавказ можно найти в произведениях русских философов и исследователей: Ф.М. Достоевского, Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, Д. Андреева, Л.Н. Гумилева и многих других.. В данном случае важно подчеркнуть, что благодаря и Святому Кресту тоже на протяжении последних столетий создавался православный миф Русского Кавказа, который воспринимал его как «метафизическое» явление, постигаемое в мистическом озарении, существующее в ином плане бытия, в ином измерении, доступном человеческому восприятию только в особом экстатическом состоянии (5, 174).
Кроме того, приобретя в данном случае топонимический подтекст, Святой Крест выразил, если воспользоваться удачно найденным Д. Замятиным со товарищи (1, 12 ) выражением, и «идею геократии пространства как власти», пространства-самого-по-себе-власти, генетически неведомого, но от того не менее заманчивого для ограниченного вершинами и ущельями мировосприятия горцев. Не трудно представить, как горец с высоты взирает на немыслимую в его родном мире, пребывающую, словно в пространстве, стрелу равнинной дороги, гарантирующую столь значимые для стихии набега открытость и мобильность. Ведь в горах дорога, а чаще тропа, только ведет, здесь же она пересекает пространство, едва ли не физически реализуя столь призрачную для горца в обычных условиях идею контроля за этим самым пространством. Но есть у пространства и собственно метафизическая компонента. “Сфера пространства сегодня, - справедливо полагает В. Каганский - автор по-настоящему новаторской книги «Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство», - остается своеобразной terra incognita. Она не отрефлектирована и присутствует в культуре как бессознательное». Здесь действительно нужна своя герменевтика, которая стала бы ещё и критической интерпретацией ландшафтного пространства как своего рода «произведения» общества и одновременно попыткой «чтения общества» по его пространству, организованному функционально и целесообразно некоей жесткой мощной структурой, сращенной с государством и пронизывающей буквально все, включая и обыденность, и само «государство». Не случайно, автор книги ссылается на Ю.М. Лотмана, который, трактуя культуру, в конечном итоге апеллирует к формам ее пространства, сводит чрезвычайно многое к взаимодействию центра и периферии, связывает типы культуры с особенностями ее пространства.
Напомню, что «императиву пространства», который есть выражение «пульсирующей в каждой пяди земли человеческой судьбы», огромное значение придавал и Х. Ортега. Несколько его перефразируя, можно утверждать, что в любом кавказце всецело присутствует «топографический фактор», ибо природные условия являются одним из ключевых моментов национального самосознания, поведенческих черт личности. В то же самое время Ортега советует не впадать в излишний детерминизм, ибо география не тащит историю, а всего лишь ее подстегивает, о чем, кстати, начисто забывает один из лидеров чеченцев Х. Нухаев. В статье «Давид и Голиаф, или Российско-чеченская война глазами «варвара» он, не называя прямо Буденновска, на уровне подтекста объясняет природу бессознательного террористического нападения на него. Делает это Нухаев весьма оригинально, одобряя действия российских военных, которые своими якобы усердными бомбардировками и артобстрелами решили проблему, которую чеченцам, «ради возвращения к Истине, пришлось бы рано или поздно решать самим – деконструировать Грозный» (3, 11). В представлении Нухаева, любой город есть гнездо разврата и растления, смешения и ассимиляции. Город несет горцам гнилое дыхание цивилизации, он - ее фундамент и по своей сути является архетипом всякого государства, столь неприемлемого менталитету истинного горца.
Отсюда буквально напрашивающаяся апелляция к ритуалу, который также может способствовать определению и пространственных границ, и групповой идентичности террористов — не только за счет исключения посторонних, но также и за счет нападок на врагов сообщества. Реальных, если говорить о России и бывшей Югославии, и символических, как в некоторых странах Европы, в прошлом районах христиано-исламского пограничья, где, по свидетельству некоторых СМИ, до сих пор каждый год разыгрываются ритуальные битвы между “христианами» и “маврами”. Ритуал оказывается очень тесно связанным с социальной памятью, с образом группового прошлого, общего в нашем случае для членов отряда Басаева. Эта общая память рода и есть открытое Юнгом коллективное бессознательное, перед мощью которого так слабы рациональные построения ангажированных властью историков и политологов.
Кроме того, осмелимся утверждать, что выбор объекта нападения был продиктован соображениями, связанными с некоторыми компонентами древних культурных стереотипов. Один из них – отраженное еще в Библии противостояние скотоводов и земледельцев (убийство Авеля Каином). Деградация пастбищ и неумение их улучшить подталкивает скотоводов к порабощению тех, кто имеет навыки работы с землей и растениями.
* * *
Постоянно держа в уме кантовскую мысль о том, что проблема метафизики есть лишь иное обозначение проблемы человека, уточню, что поиск собственно мистической природы буденновской трагедии был предпринят задолго до меня Ю. Козловым – автором фантастического романа «Колодец пророков». Россия в этом произведении уже третий год ведет войну с входящим в ее состав, но провозгласившим себя независимым, мятежным Гулистаном – вымышленной горной республикой. Во главе ее стоит бывший генерал советской армии Каспар Сактаганов, или, как чаще его называют, генерал Сак, чей образ очень напоминает по целому ряду внешних примет Джохара Дудаева. Генералу противостоит также бывший советский офицер-«спецназовец», «русский Рэмбо» Пухов. Поначалу складывается впечатление, что конфликт между ними носит идейный, этно-культурный, замешанный на исторических обидах характер. В журнальном варианте романа было даже неясно, отчего взбрело в голову гулийцам/чеченцам вообще напасть на ставропольскую станицу Отрадную (Буденновск) и столь целеустремленно расправиться с проживавшей там матерью Пухова. И только последовавшее вскоре отдельное издание романа, в текст которого были внесены отсутствовавшие в журнальном варианте эпизоды, позволило с большой долей уверенности рассматривать сюжет произведения как интерпретацию близнечного мифа. Теперь, думается, вряд ли кто возьмется оспорить, что к известным мифологическим парам - Озирис и Сет, Шу и Тефнут, Кастор и Поллукс, Ромул и Рем, Каин и Авель, Иаков и Исав – благодаря талантливому русскому писателю есть все основания прибавить и близнечную связку Пухова и Сактаганова. Она суть и движущая сила главной интриги в трехлинейной структуре романного сюжета, ибо и мистическая линия, связанная с Августой, и историософская, где действует Илларионов-младший, будучи достаточно автономными, все-таки являются «ведомыми», создающими столь необходимый бытийно-философский антураж для «ведущей», в которой главными действующими лицами становятся эти двое. Несмотря на романное многолюдье, их всегда только двое, противопоставленных друг другу, но и одновременно не мыслимых, более того, просто не возможных друг без друга. В лишенном визуальной перспективы литературном тексте неподдельный страх внушает не полное физическое сходство близнецов, а ассоциируемая с ними зараженность насилием, рождающегося из духа соперничества между равными и одинаковыми, которому нет конца. «Близнецы-двойники — маска насилия, а не свидетельство победы над ним», - убеждает В. Подорога в своей статье о гибели нью-йоркских Twins 11 сентября 2001 года.
Что же позволяет интерпретировать соперничающий дуэт Пухов – Сактаганов в парадигме близнечного мифа? Во-первых, у обоих, согласно романной идее, одно и то же предназначение - спасти Россию и стать родоначальником некоего нового народа (Сактаганов в таком варианте - реконструкция известной метафоры «Сталин это Ленин сегодня», олицетворение «русской планиды», якобы возлагающей, по мнению одного из героев «Колодца пророков», в роковые для страны времена все надежды именно на кавказцев). Во-вторых, они ровесники, выбравшие для себя одну и ту же стезю – военную, что значительно усиливает представление о близнецах как опасной и смертоносной силе. В-третьих, родина обоих – Северный Кавказ, где сегодня происходят поистине тектонические сдвиги, имеющие для страны судьбоносное значение. В-четвертых, некая тайна окутывает их семейное положение. О родителях гулийца ничего не сообщается, но личным врагом для него Пухов становится после того, как тот в Гулистане совершает на первый взгляд совершенно бессмысленное убийство одного старейшины, выступающего нередко на Кавказе в роли отца, в данном случае – символического отца Сактаганова. Русский же совершенно не случайно генетически маркирован как сын одинокой женщины-прачки, немой от рождения. Именно она, а не ее сын - профессиональный военный убийца, становится главным объектом мести. Возникает достаточно убедительная версия: близнецы, ставшие результатом межэтнического брака и вскоре, как нередко случалось в СССР, распавшегося, поделены родителями. Убив старика гулийца, Пухов делает сиротой своего брата, который из духа соперничества поступает с ним аналогичным образом, восстанавливая нарушенное было статус-кво в схватке за Россию и, что, наверное, более существенно, свою легитимность.
То же самое просматривается в действиях чеченцев, захвативших в Буденновске родильный дом. Террористы делают своими жертвами не военнослужащих расквартированного здесь полка ВВС, откуда совершались воздушные налеты на Чечню, а беззащитных женщин, пытаясь тем самым манифестировать свою равноправность с русскими в определении исторических судеб страны. Еще более убеждаешься в правомерности этой идеи, когда в памяти всплывает показанный в те дни по телевизору телефонный разговор бывшего премьера Черномырдина с главарем террористов Басаевым, «вторых» лиц в тогдашних российской и чеченской иерархиях, манипулировавших огромными денежными потоками, знавших их происхождение и считавших себя к ним одинаково причастными. То был разговор действительно равных, прекрасно осведомленных друг о друге людей (едва не сорвалось с языка - «братьев»). Обычно быковатый и нахрапистый «Степаныч», вначале распетушился, предложив себя в качестве заложника, потом как-то стушевался, сник, «землемер» же (ох уж эта профессиональная привычка!), обсуждая маршруты отступления, со сдержанным благородством торговался, ибо своей главной цели он добился. Почему-то вспомнилась статья из энциклопедического словаря «Мифы народов мира» (2, 174), где говорится, что в некоторых дуалистических близнечных мифах братья-близнецы, наоборот, не антагонистичны друг другу, а воплощают лишь два начала, каждое из которых соотнесено с одной из половин их общего племени. И приводится в пример миф североамериканского индейского племени зуни, в котором правят два Возлюбленных близнеца. Они выступают в роли культурных героев, которые выводят людей из пещеры на солнце и дают им орудия и оружие. Почти как в буденновском случае, когда террористы - люди поистине пещерного мировоззрения – совершили свое преступление с помощью оружию, добровольно переданного им самой государственной властью. Кстати, последовавшее вскоре «Хасавьюртовское соглашение» только подтверждает фатальность близнечного мифа для России. Масхадов и Лебедь – очередная близнечная пара – демонстрировали на уровне бессознательного могущество подобия. Мужественные лица старых вояк (одно-пол-чан?) словно оповещали весь мир, что «близнечный миф преодолен, и за равным и подобным не скрывается более страх перед первоначальным насилием». Другими словами, они утверждали обновленную, теперь уже совсем «безопасную», версию близнечного мифа. На месте как реальных имперско- колониальных пар близнецов Ельцин – Дудаев и Черномырдин – Басаев, так и вымышленных – Пухов – Сактаганов (хотя приоритет в обнаружении этого феномена принадлежит вне всякого сомнения Толстому, еще в «Хаджи-Мурате» обнаружившему поразительное сходство, чуть ли не родство Николая 1 и Шамиля), появились уже не соперники, а партнеры, подобие которых порождало надежду на снятие конфликта различий прежних пар. В высшей степени символично, что именно в таком виде предстают российский подполковник Гуров и кавказский полевой командир Алибеков в маканинском «Кавказском пленном», трагически, но, тем не менее, гениально предвосхитившим войну в Чечне и связанные с ней последующие события. Не случайно Гуров лишен какой-либо ненависти к своим, казалось бы, заклятым врагам - горцам, ему понятна «правда» Алибекова, как был понятен и оправдан Максимом Максимычем Казбич – исполнитель вековых обычаев и законов своего народа. Под стать ему и брат-близнец, который после совместной обильной трапезы рассказывает Гурову о стремлении своих старейшин к новому союзу с русскими против Европы. Здесь уже просматривается не традиционное противоборство, а, наоборот, стиль удвоения, «близнечества», уникального и единственного в своем роде.
…Трудно не согласиться с В. Подорогой, утверждающим, что любой первоначальный культурный опыт развивается из выработки отношения к Другому, и близнечный миф представляет собой первоначальный опыт поиска равновесия между тем, что есть «Я», мое обособленное бытие, и тем, что есть «Другой» (4,250). Разыгравшаяся в Буденновске мистерия на тему близнечного мифа, дает возможность иначе взглянуть на проблему «Я» и «Другой», очень важную и в изначальной архетипике русской культуры и для понимания самой сути российской цивилизационной стратегии. Ведь ненависть и месть лишь симптомы буденновской трагедии. Не произошла ли она оттого, что коммунистическая идеология (в основе которой лежала аскеза) и олицетворявшая ее псевдоинтернациональная элита, с ее пренебрежением традиционными символами и исторической памятью стали в конце 80-х – начале 90-х источником бунта бессознательного, что привело к возвышению национальных элит, а затем и к войне. Архетипу, лишенному привычных символов, нашли новые символьные одежды в прошлом. В лежащем «чеченском волке», возвращении «законов рода и гор», в террористических «актах исторического возмездия» можно видеть свидетельства того, что человек прошлого, живший в мире архаических коллективных представлений, возродился, прямо по Юнгу, вновь и в самой видимой болезненной реальности.
И все-таки, пытаясь ответить на вопрос «Что же произошло?», мы, учитывая глубинный смысл нашей профессиональной миссии, не можем не поставить перед самими собой неотвратимого «Что делать?» Да, прав Подорога, террор экстерриториален и ныне он уже не выражение отчаяния, не поражение униженных и не месть бедных. Да, сегодняшние террористы действуют по новым правилам, не ставя перед собой, как прежде, локальных задач, проникнутых духом революционного романтизма, пренебрегая прагматизмом и политическим расчетом. Но, в любом случае, этому действительно надо что-то противопоставить, и ответ на него, скорее всего, лучше всего расположится в области этического, столь актуального для на всех сегодня. Добро и зло в периоды резкого обострения духовного кризиса – кризиса ценностей – теряют свою очевидную парадигматическую дифференциацию и, чтобы установить общий язык, «мы» и «они» заново вынуждены наполнить эти категории согласованными между собой и устраивающими нас понятиями и представлениями.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Балдин А., Голованов В., Замятин Д. Империя пространства // «Ex libris НГ» 26. 10. 2000.
2. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. – М., Рос. Энциклопедия, 1994. – Т. 1
3. Нухаев Х. Давид и Голиаф, или Российско-чеченская война глазами «варвара» // «НГ-Сценарии», 2000, №11, 10 декабря.
4. Подорога В. Гибель Twins // Отечественные записки. 2001. №1. - С. 238 – 252.
5. Теребихин Н. Лукоморье: Очерки религиозной геософии и маринистики Северной России. - Архангельск, 1999. С. 66.
P. S. Буквально на следующий день после того, как была написана эта часть работы, произошла трагедия в московском театральном центре на Дубровке, еще раз со всей трагической неотвратимостью подтвердившая озвученную выше мысль о том, что терроризм, будучи в немалой степени и психологическим явлением, не может существовать без символизма. И «Норд-Ост», «культурный стабилизец» (пользуясь спорным образом С. Кургиняна), стал символом и закономерным итогом того жизненного карнавала, в котором участвовали наиболее обеспеченные слои российского общества в последние годы. Пир во время чумы, умильность посреди катастрофы, когда романтика давно уже выхолощена из беспрецедентно антиромантической действительности с ее индустрией развлечений, мюзиклами и ночными клубами, презрев одновременно самое насущное - охрану своего мира, защиту собственного дома.
«Кавказский» и «Петербургский» тексты русской литературы: опыт сопоставления.
В сети тематических, мотивных, образных констант, обладающих глубокой внутренней логикой и составляющих непреходящую ценность русской литературы, с державинских времен оформилась и впоследствии получила статус едва ли не идентификационной социокультурная оппозиция Петербург – Кавказ. Ее сложность, трагедийность и величие выразил Б. Пастернак в ставшей афоризмом строчке «Страны не знали в Петербурге», в которой под «страной» прежде всего подразумевается органическая составляющая общеимперской утопии - Кавказ, с происходившим там в течение почти всего Х1Х века жестоким кровопролитием. Русское просвещенное дворянство изначально видело в Кавказе реальную оппозицию Петербургу – духовную, идеологическую и, что здесь для нас важно, эстетическую. Поэтому дихотомию Петербург – Кавказ как отражение принципиально двойственного мировидения, деления мира на высокий и низкий оказала столь серьезное влияние на парадигматику романтического мировоззрения.
На рубеже ХХ – ХХI веков есть смысл дифференцировать «русское» художественной осмысление указанной оппозиции и «кавказский» взгляд на нее. Первое получило репрезентацию как в прозаических жанрах (М. Чулаки, С. Довлатов, Л. Агеева, В. Попов, Я. Гордин, М. Румер-Зараев), так и лирических (И. Бродский, С. Стратановский, В. Кривулин, В. Шубинский, И. Бурихин). Кавказская же ретроспекция существует только лишь в прозаических. Ее начало было положено Г. Робакидзе (роман «Змеиная рубаха») и Г. Газдановым. - сложное, полное подтекстов и иносказаний произведение - вбирает в себя реминисценции из мировой культуры и сама собой выстраивается концепция их духовной взаимосвязи, а тема Петербурга в романе переплетается с темой Кавказа (как ипостаси Востока), скифов и монголов. У современных же авторов (А. Черчесов, Р. Гаджиев, Хачилав, Д. Зантария, Г. Маркосян-Каспер и др.) несколько иначе. К примеру, в рассказе «Петербуржец», входящим в прозаический триптих А. Мамедова «Свадьбы» тоскующий по Ленинграду и оставленной там любимой Расим должен, согласно обычаю кровной мести, отомстить за убитого брата. Однако «петербуржец» предпочитает застрелиться, ибо подобно пушкинскому Тазиту познал воочию ценности чужой культуры, принял их как свои и в соответствии с ними сделал выбор.
Петербург и Кавказ – пожалуй, одна из наиболее ярких образно-географических пар на евразийском пространстве, которую можно считать ипостасью глобальной антиномии “Север – Юг”, имеющей для России не временный и локальный, а универсальный и перманентный характер. А. Генис в своей книге о С. Довлатове особо говорит о том предпочтении, которое отдавал писатель антитезе “Север – Юг” вместо любимой советской оппозиции “Восток – Запад”. Если Север в лице “Северной Пальмиры”/Петербурга являл собой русский вариант западноевропейской цивилизации, холодной и циничной, то Юг, олицетворяемый Кавказом, виделся Довлатову карнавальным и искренним, навсегда остающимся “школой чувств и резервуаром открытых эмоций” (1). Рефрен из одноименного рассказа “Когда-то мы жили в горах” становится своеобразным заклинанием писателя, уберегающим в унылом индустриальном мире, где человек обижает женщину, вместо того, чтобы петь о ней песню; “бежит в гастроном”, а не “спускается в погреб”; “плещется в троллейбусных заводях” вместо того, чтобы “скакать верхом”.
Таким образом, “…вреден север для меня” и “Быть может за стеной Кавказа…” хрестоматийны не только с точки зрения школьного курса поэзии, но и в качестве констатации двух не смыкающихся друг с другом полюсов российской жизни, российской ментальности. Пусть и было так, кажется, чуть ли не всегда, еще с уходящего в глубину веков противостояния Руси с Полем, но очертания привычной для нас парадигмы начинают вырисовываться прежде всего с персидского похода Петра, заявившего всему миру об имперских притязаниях России на Кавказ. Вернее, не с самого похода, а с упоминания о нем в “Элегии о смерти Петра Великого” В. К. Тредиаковского, будущего известного петербургского стихотворца. Спустя три четверти века, благодаря блистательному певцу Фелицы, в одах “На покорение Дербента” и “На возвращение графа Зубова из Персии” темы Петербурга и Кавказа (особенно в последней) вдруг обнаружат внутреннюю взаимосвязь. Первым ее, возможно сам того не ведая, отметит в примечаниях к “Кавказскому пленнику” А. С. Пушкин, воодушевленный, с одной стороны, имперским пафосом произведения, с другой – изображенными в нем дикими картинами Кавказа.
Пройдет еще двести лет, и у петербургских поэтов – наследников Тредиаковского и Державина – “Кавказ и вокруг” уже будет вызывать совсем иные чувства. Это особенно отчетливо сознаешь при знакомстве со сборником “Время “Ч”: Стихи о чеченской войне и не только”, изданным “Независимым литературным обозрением” в 2001 году. В нем явно обозначен петербургский слой, который определяет известную “петербургоцентричность” “кавказского текста”, по крайней мере, как сказал бы В. Н. Топоров, “в плане эмоциональной гипертрофированности” (2) в описании современных кавказских реалий. К примеру, покойный Виктор Кривулин, представленный в сборнике двумя циклами – “Стихами времен Первой чеченской (1995–1996)” и “Стихами времен Второй чеченской (1999–2000)”, открыто полемизируя с предшественниками о новобранцах, ожидающих отправки в мятежные горы, в стихотворении “Надежда и опора” уже напишет так: “опора наша и надежда наша / о дети поврежденные войной / одетые в подобье камуфляжа / с нагрудной наградной дырой // водили их как скот на водопой / по тронным залам эрмитажа / пускай потрогают хоть отблеск золотой / той роскоши и славы чья пропажа // волнует меньше их чем гильза в кулаке / чем почернелый угол позолоты / в подножии колонн…/” (3) <Здесь и далее сохранена авторская пунктуация и орфография.>
Здесь считаем важным чуть подробнее рассказать о Кривулине - авторе очень цельном и последовательном, но при этом располагающимся как бы в самом ядре русской поэзии 1970—1990-х, образующим тот ее стержень, от которого в различные стороны уходят сколь угодно далеко испытатели разных более или менее радикальных художественных стратегий. У Кривулина не так-то просто отрефлектировать индивидуальные черты поэтики, поскольку немалая часть их воспринимается как сама собой разумеющаяся характеристика современного русского стиха вообще. Возможно поэтому Кривулин не любил, когда его стихи читает кто-то другой - уж очень яркой, богатой по звуку и точной по интонированию была его авторская манера чтения. Кривулина чрезвычайно требовательный к себе и к собратьям по цеху Ольга Седакова определяет как поэта истории. Муза его — прежде всего Клио (есть у него, кстати, одноименное стихотворение). История представлена в стихах Кривулина одновременно и в аналитическом, и в мистико-визионерском ракурсе. При этом всегда присутствует стихия гимна, экстатическое начало. Кривулин выступает не как свидетель на суде времени (позиция, свойственная Блоку) и не как праздный зритель. Он занимает уникальную позицию очевидца, в которой тонко сбалансированы включенность и отстраненность. Осуществленное Кривулиным соединение лиризма и историчности — перспектива новизны русского стиха, содержательная альтернатива давно исчерпавшим себя поискам нового на путях прозаизации стиха, обращения к низовым реалиям и лексическим пластам. Л. Зубова в одной из своих статей предприняла попытку набросать самые общие очертания того мира, который выстраивает поэзия Кривулина. Это мир обломков и отбросов, мир нарушенной коммуникации, который необходимо заново оживотворить, наделить теплом. Такая двойственность миросозерцания приводит к тому, что снижающие образы у Кривулина начинают функционировать как возвышающие. Этот тезис Зубова иллюстрировала рядом конкретных разборов, показывая, как ценностная амбивалентность рождается из игры с многозначностью слова, реализации языковых метафор, употребления фразеологизмов с одновременной апелляцией к прямому значению словосочетания. Не случайно другой исследователь З. Каганов среди основных барочных мотивов, приложимых к стихам Кривулина, обнаружил, прежде всего, мотив недостроенности мира и в то же время его постоянной разрушаемости: одновременно имеет место и ощущается невиданное торжество некоторой мировоззренческой системы — и ее окончательный и бесповоротный распад.
Но вернемся к нашей теме.
Если гиперболическая несоразмерность настоящего и прошлого, столь характерная в оде “На покорение Дербента”, свойственная, впрочем, всей державинской баталистике, служит воспеванию военных побед на кавказском направлении своих современников (что стоит, скажем, сравнение Валериана Зубова с Петром и Александром Македонским), то в сборнике “Время “Ч” у другого питерца – Сергея Стратановского – несмотря на сопоставлении Чечни с Троей, она пронизана глубочайшей меланхолией, осознанием исторической бесперспективности самой войны, названной здесь “актом преступления”: “Ранней зеленкой, / Смертозащитной, / покрылись деревья ижорские / в парке славы российской, / в прекрасном саду саркосельском // Обелиски, колонны…/ но тихо в аллеях просторных. / Ветер вешний / сюда не приносит вестей / Из Чечни мятежной, из непокорных ущелий / День падения Трои / неистовство древней резни / Когда камни визжали / обрызганы липкой и жаркой / Биожидкостью трупной // День падения Трои…/ Но кровь не уйдет от забвенья / Станет акт преступленья воздушным рисунком на вазах / Росписью стен и мозаик, / песней слепца на пиру / О копьеносцах-героях /” (4). В столь ярко выраженной в данном случае “эстетизации” противопоставления Петербурга и Кавказа обращают на себя внимание коннотативные значения слова “камень”, благодаря которым возникает разные ипостаси камня – вначале как материальной основы обелисков и колонн, затем – кровавой плахи. Тот же Кривулин назовет чеченский народ “каменным этносом”, который “дымом черным пятнает белые облака”.
Что касается бывшего ленинградца Игоря Бурихина, то в своем произведении “Ольго-Грозная баллада о взятии Грозного и проч. в России” он ту же самую проблему решает в совершенно ином ключе, которую с некоторой долей условности можно назвать мифопоэтическим.
Метафизическое восприятие кавказско-петербургской антиномии неожиданно находим в строках Валерия Шубинского: “Песчаный демон Востока / И болотный северный страх / Глядят друг на друга, как прежде, жестоко, / Но ярости нет в глазах. // Видать, и они устали / Вспоминать имена немых. / Но глупые духи огня и стали / Работают вместо них. // Для смерчи, смерти и страха / Земля и сейчас мала. // А небо мелеет от каждого взмаха / Механического крыла /” (5). Эти слова, думается, своеобразный ответ Сумарокову, призывавшего почти три столетия назад России двигаться не на Запад, куда смотрел Петр I, а завоевывать Восток. Вот выдержки из его од: «Зыблется престол под ханом / Огнь от севера жесток / И Российским Тамерланом / Устрашает весь восток». – Или другое: «Уже глас Севера я внемлю / «Мы блата в сушу претворим, / Селением покроем землю, /Восток России покорим: // Дойдем до жаркого мы Юга».
Петр I, перенеся столицу в Петербург, символически подчеркнул, что вектор государственных интересов России направлен на Север и Запад. При Екатерине II же Россия завоевывает территории на юге, отнимая тем самым у Турции не только земли, но и ареал восточной страны. Более того, Россия выступает как истинная наследница античной Греции и ее культуры: еще до «греческого проекта» эта тема ясно прослеживается в переписке Вольтера с Екатериной II, в которой великий мыслитель предлагал Екатерине II перенести столицу на юг, предрекая России роль повелительницы Востока. Во время второй русско-турецкой войны французские публицисты развивают этот миф о России как о державе, которая принесет Просвещение и свободу на Восток, порабощенный мусульманами.
Югофильство, – утверждает в своей концептуальной, продолжающей оставаться единственной в своём роде книге «Природа, мир, тайник вселенной» М.Г. Эпштейн, – первая, во многом утопическая антитеза балтийской ориентации России, предрешённая Петром I. (Эпштейн М.Г. «Природа, мир, тайник Вселенной…» М., 1990. С. 165). Вместе с тем, «вненаходимость» власти всегда была свойством Кавказа, из-за чего складывалось ощущение, что власть здесь только приложена извне (вся русская литература, по сути, об этом). Но даже констатация данного тезиса ничуть не умаляет того, как приложенная к обществу извне она парадоксальным образом объединяла монгольский и византийский политический проект, на протяжении нескольких веков конкурирующих друг с другом в России, но – вот парадокс – составивших синтетическую основу Русского Кавказа.
В целом, на примере этих стихов несложно убедиться, как и каким образом культурные установки петербургских поэтов воздействуют на субъективное восприятие и толкование современных кавказских войн. Война есть социокультурный феномен, поэтому ее образ конституируется в сборнике дискурсивно, с помощью двух компонентов: социального, который включает столь зримо выдающий себя в петербургском слое ежедневный военный дискурс, и когнитивного, во всей совокупности личных убеждений и ориентаций, стереотипов и предрассудков. Но даже этим нам необыкновенно трудно объяснить акцию престижного среди гуманитариев издательства “Новое литературное обозрение”. В 1999 году им была выпущена книга, на обложке и на титульном листе которой написано: “Иосиф Бродский. Представление”. И только на обратной стороне титула мелким шрифтом появляется вторая часть заглавия, как раз и сообщающая об истинном авторе книги: “Художник и фотограф – Олег Смирнов”. Это – едва ли не инсталляция, где к каждой из 143 смирновских фотографий приложена строка-другая из поэмы Бродского “Представление”. Этими строчками фотограф пытается объяснить, а может, просто назвать или обозначить то, что зафиксировал на пленку. Среди отснятого есть и отражающие острую социальную фактуру события в Нагорном Карабахе, Осетии, Чечне. На фото под номером 47, к примеру, сделанном в поселке Ичхой-Юрт в мае 1995 года, снята комната, с разбросанным на полу тряпьем, с портретом Ленина на стене, с кроватью, над которой крупными буквами выведено граффити, оскорбляющее достоинство чеченцев. Под всем этим подпись: “Что звучит в момент обхвата как наречие чужбины”. На следующей, 48-ой фотографии, разрушенные дома в Грозном, снятые в лоб, и такая подпись: “Лучший вид на этот город – если сесть в бомбардировщик”. Оставляя в стороне этический аспект проблемы, заметим, что и в эстетическом плане вряд ли метафизические видения Бродского так легко могут быть интерпретированы в чисто “физиологическую” поэтику Смирнова без потери того, что, по словам С. Лурье, было присуще великому поэту – дар чувствовать мир как целое, во всей его протяженности, прелести, тяжести и трагизме..
Принципиально иной по характеру диалог с Кавказом вступают герои романа А. Уткина «Хоровод». Его герой – корнет Владимир Неврев, типичный персонаж “петербургского текста”, по стечению целого ряда опять-таки чисто петербургских обстоятельств оказывается в действующей на Кавказе армии, и вскоре после тяжелого, кровопролитного боя “угодил к горцам”, то есть оказался в плену, став тем самым знаковым персонажем отечественной кавказской прозы. Отметим, что ситуация плена, изображенная современным писателем, во многом схожа с той, в которую попал герой пушкинской поэмы: неизменный аркан, туго охватывающий пленников; переполошившийся аул, воплями и угрозами встретивший пригнанных русских; их безмерное отчаяние и безразличие к смерти; рабская участь овечьих пастухов, знаком которой являются “оковы” – металлические у романтического Пушкина, колодка-“проклятие христианина” у постмодернистичного Уткина. “Осовременена” в “Хороводе”, в отличие от классического образца, и сцена избавления от плена.
Интертекстуальность, подчеркнем, – важнейшая черта романа Уткина, которой определяется, с одной стороны, самоощущение и миропонимание главного героя, и, с другой, – сама специфика произведения, представляющего собой взаимодействие разных текстов. “Хоровод” за это многими критиками был осужден, хотя уже в эпиграфе, взятом из строк “Писем русского путешественника” Н. Карамзина, дается прямой намек на, скажем так, неотвратимость паратекстуальности. Не составит никакого труда увидеть в романе и “соприсутствие” не только “Кавказского пленника”, но и “Княгини Лиговской”, и “Вечера на Кавказских водах”, и даже окуджавского “Путешествия дилетантов”, взаимодействие с которыми можно определить, если воспользоваться классификацией Ж. Женетта, как метатекстуальные, а в некоторых случаях как и гипертекстуальные (например, появляющийся в самом начале романе французский астролог и магнетист мсье Пуссен – явная пародия на пушкинского интерпретатора).
Внутри обширного разветвленного мира, который создан “кавказской” прозой, многое взаимосвязано именно с петербургской темой – перекликаются конфликты, судьбы героев, мысли. Одно произведение позволяет лучше понять другое: мотив, мелькнувший в одном рассказе, станет важнейшим в другом, а явление, однажды исследованное, рассматривается под новым ракурсом и обнаруживает неведомую прежде грань. Именно этим обстоятельством мы объясняем явно не случайное обилие дуэлей в русской прозе, тематически связанной с Кавказом. Видимо, сама ситуация дуэли призвана как-то по-особому охарактеризовать русского военного, оказавшегося здесь волею судеб. “Воздух, что ли, здесь другой?” – пробует ответить на этот вопрос петербургский аристократ, рассказчик в романе А. Уткина “Хоровод”, размышляя о странной тяге русских ехать на Кавказ, чтобы там стреляться.
Сцену дуэли Неврева и бретера Елагина мы склонны рассматривать как проявление некоей альтернативы “азиатской бездуховности”, напрямую связанную с периодом наибольшего “российского западничества” – расцветом человеческой индивидуальности и достоинства, который существовал при правлении дома Романовых.
Многими исследователями произведение Уткина считается умело выполненной стилизацией под исторический роман, что требует хотя бы краткого комментария. Известно, в советские годы исторический роман о Кавказе, как, видимо, и в целом жанр, выполнял разные функции. В случае, скажем, с А. Толстым или С. Бородиным он играл роль романа-приложения к курсу истории, а “Путешествие дилетантов” примечательно было тем, что в уста героев автором вкладывались всякие вольнодумные рассуждения, актуальные для брежневской эпохи. Главная заслуга Уткина, отмеченная критиками, заключалась в том, что он изобразил эпоху первой трети прошлого века без столь традиционного для нашей исторической прозы – от Тынянова до Окуджавы – декабристского контекста, взглянул на ту жизнь, как просто на жизнь людей. Один из персонажей романа совершенно не случайно произносит очень важную для авторской концепции фразу: “История – это не отсеченная голова короля, это просто плавное течение жизни”, которому весьма искусно соответствует тонкое погружение в стихию языка той, уже достаточно давней петербургской эпохи, о которой так восторженно писал Вл. Новиков.
Спустя сто пятьдесят лет после Неврева, так же не по своей воле бегут “с милого севера в сторону южную” (М. Лермонтов) герои талантливого рассказа Л. Агеевой “В том краю”, где столь очевидно изображен именно опыт петербурженки, но никак, скажем, не москвички. Рассказ строится как типичный хроникальный сюжет, в основе которого семь эпизодов, представляющие фрагменты писем героини своей подруге. Письма посылаются в Санкт-Петербург из южнорусского городка – бывшей станицы, – из которой хорошо видны отроги Большого Кавказского хребта, так когда-то взволновавшие окуджавского Мятлева. Героиня оказалась здесь вместе со своим мужем Николаем по причине достаточно прозаической для российской действительности первых постсоветских лет: квартира в Северной столице оказалась отданной за долги, которые наделал их ударившийся в коммерцию сын. Супругов – бывших сотрудников НИИ – приютила в своем доме тетка героини; главная их задача теперь – прийти в себя после недавнего прошлого, когда жизни сына угрожала реальная опасность, исходившая от не знающих пощады кредиторов.
Но трудности, выпавшие на долю когда-то считавшейся едва ли не идеальной пары, не скрепляют ее, а, наоборот, в конечном счете, разрушают. И не выдерживает, как это чаще и бывает в “петербургском”, а не “кавказском” тексте, мужчина, оказавшийся слабым, истеричным, чрезмерно амбициозным и ненадежным человеком.
Может возникнуть вопрос, причем в этой петербургской житейской истории так важен именно “кавказский эпилог”, разве нечто подобное не могло произойти на Урале, скажем, или на Камчатке? Действительно, социальный фон, на котором происходят в рассказе события, типичен для всей постперестроечной России, но Агеева совсем не случайно переносит решение возникшего еще в Санкт-Петербурге конфликта между супругами именно в Предкавказье, где личностная драма каждого из них дополнительно обостряется обстоятельствами культурного, этнического, геополитического порядка. Необходимо это автору, по всей видимости, и для того, чтобы читатель не свел проблематику рассказа только к кругу вопросов, являющихся приоритетными для женской прозы. Вот почему, к примеру, представляя петербургскую научную элиту, герои, тем не менее, с самого начала ощущают свою чужеродность в среде местных жителей – бывших станичников, хуторян, переселившихся в город, – которые, в представлении приехавших, “замкнутые, недоверчивые, самоуверенные, косноязычные, не читавшие никаких книг, подозрительные, ненавидящие городских, не любящие животных”. Расположенная рядом Чечня также вызывает постоянную тревогу, а случайная встреча с беженцами оттуда вызывает у рассказчицы ирреальный страх, словно напоминая о своей собственной судьбе. Здесь вновь вспоминаются стихи А. Одоевского: “/ Но солнце там души не отогреет / и свежий мирт чела не обовьет /”.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Аннинский Л. “Странный странник” // Битов А. Книга путешествий. – М: Известия, 1986. – С. 598.
2. Генис А. Довлатов и окрестности: Главы из книги // Новый мир. 1998. – № 7. – С. 118.
2. Время “Ч”: Стихи о чеченской войне и не только. – М.: Новое литературное обозрение, 2001. – С. 304.
3. Там же. – С. 107.
4. Там же. – С. 165–166.
5. Мандельштам О. М. Сочинения: В 2 т. – М.: Худож. лит., 1990. – Т.2: Проза. – С.420.
6. Сотникова Т. Неподражательная странность // Знамя. – 1997. – № 9. – С.218.
7. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. – М.: “Прогресс” – “Культура”, 1995. – С. 273.
8. Шкловский В Б. Путь к сетке // Лит. Критик. – 1933. – № 5. – С.115.
1. Время «Ч»: Стихи о чеченской войне и не только. – М.: НЛО, 2001.
2. Гроссман В. Добро вам! // Знамя. – 1988. – № 11.
3. Кожинов В.В. История Руси и русского слова: Опыт беспристрастного исследования. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.
4. Нефагина Г. Русская проза второй половины 80-х–начала 90-х гг. – Минск, 1998.
5. Новый мир. – 2001. – №4.
6. Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян. – М., 2002.
Русская культура как фактор стабилизации этнополитической обстановки на Северном Кавказе
Специфика возникновения и развития национальных противоречий на Северном Кавказе, особенности менталитета и условия бытия живущих здесь людей, помноженные на мощную религиозную компоненту, оказывающую значительное влияние на формирование отношений между представителями различных этносов и конфессий, обусловили необходимость многопланового подхода к вопросу прогнозирования, изучения и урегулирования межнациональных конфликтов в этом регионе Российской Федерации. Мы полагаем, что одним из таких факторов является исторически сложившееся на данной территории доминирование русской культуры, что обеспечивало в регионе в течение длительного времени в основном бесконфликтное развитие ситуации.
В то же время недавно проведенный в ряде республик мониторинг об отношении простых людей к этническим русским показал, что о них в положительном смысле высказалось около трех четвертей опрошенных, тем самым продемонстрировав, что усердно навязываемые общественному мнению стереотипы о русских не имеют массового распространения. Долгие годы неопределенности начинают убеждать именно этих людей в том, что судьба России, как уже не раз бывало, во многом разрешается именно на Юге и что без цивилизованного государственного строительства невозможно ни восстановление экономики, ни их собственное благополучие.
(Оставим пока в стороне то, что отмеченные обстоятельства актуализировали идею этнополитического самоопределения самих русских, так как перед ними как никогда прежде стоит необходимость сформулировать новый модус национального самосознания, который позволил бы обеспечить русскому этносу прочную духовно-идеологическую основу и определить русских по отношению к новым реалиям бытия).
Но прежде всего всем живущим на Северном Кавказе необходимо наконец-то понять, что проблемы наши не столько собственно экономического, сколько духовно-мировоззренческого характера. Возникшая именно в этой сфере дилемма в значительной мере отравляет интеллектуально-психологический климат в нашем регионе, хотя, признаемся, иногда возникает ощущение ее ложности, эфемерности, кем-то искусственно выстраиваемой значимости. Но в любом случае она может быть преодолена только при условии, что мы осмысливаем перспективы России в горизонте большой общечеловеческой, формационной перспективы. Ведь (будем откровенны!) европейское новое время заканчивается на наших глазах. Крах вестернизационного проекта в современной России связан не с культурно-историческим «упрямством» и косностью России, о чем твердят наши радикал-реформаторы. Эпигоны всегда запаздывают, они и сегодня запоздали: навязали России проект «тотальной вестернизации» как раз в то время, когда процесс вестернизации объективно исчерпал себя, ибо исчерпала себя та модель, тот завоевательно-преобразовательный принцип, с которым Запад решил подходить к миру, начиная с промышленного переворота. Упрямо продолжать индустриально-завоевательную эпопею, когда-то инициированную Западом, – значит бросать вызов самому бытию русского человека на Земле. Необходим качественный исторический поворот. И мыслить перспективу России надо именно в контексте такого поворота, ибо мы – страна, способная выдвинуть большую альтернативу, и как раз в тот момент, когда человечество стало осознавать «пределы роста». Плюс к этому - осмыслить этот сдвиг следует, прежде всего, в терминах духовной реформации, касающейся не предметно-технической среды нашей цивилизации, а ее внутренней, духовной среды.
В этом контексте предельную актуальность получает вопрос о культурной унификации – это болезненный вопрос есть одновременно и вопрос единства России. Подобное положение в перспективе способно привести к установлению духовного тоталитаризма, где в одномерном унифицированном мире люди, лишенные ценностей национальной культурно-религиозной идентичности получат, пользуясь словами Достоевского, «смиренное счастье, счастье слабосильных существ». С одной стороны, в культурной глобализации невозможно избежать стремительно нарастающего интегративного фактора, но с другой стороны, понятно, что необходимо сохранить определяющее «лицо» этноса» и, стало быть, культурное многообразие. По природе своей полиэтнический и поликонфессиональный характер русской культуры создает предпосылки для сохранения в ее рамках основ национальных традиций, противоядие от унификации культурных стандартов и утраты культурной идентичности. Этот действительно наиболее сложный и проблематичный вариант взаимодействия русских со своими российскими согражданами, требующий выработки современных институциональных форм и политических структур, состоит, особо подчеркнем, в постепенной интеграции в единое федеральное (но не имперское!) сообщество всех культур при сохранении их субъективности – политической, экономической, культурной. Такой тип интеграции, например, осуществленный Японией и некоторыми другими государствами, требует, отказа от прежних имперских амбиций и государственно-патерналистских комплексов (сложная и тяжело решаемая для России проблема). Подобный вариант межкультурной интеграции А. Дугин называет «соборной моделью» глобализации, когда «в общую копилку человечества вносятся проекты и тезисы, обобщающие исторический, культурный, хозяйственный, социальный, политический, национальный, религиозный опыт различных народов и государств» (1).
В связи с этим лишь напомню, что в современной науке получило развитие такое понятие, как блок культурного наследия. Есть славянский, есть тюркский блоки культурного наследия. Скажем, блок культурного наследия евразийских степей сложился на территории от Молдавии до Монголии в период времени от эпохи бронзы до кочевничества. Внутри такого блока происходили со временем трансформации, менялись этносы. Но для всех народов, составляющих блок культурного наследия, были характерны общие черты в одежде, в организации жилища, в менталитете и так далее. Народы, живущие сегодня на территории СНГ, в разное время входили в единые блоки культурного наследия, и изучение этих блоков – одна из важнейших задач научного пространства СНГ. Говоря откровенно, именно блоки культурного наследия являются идеологической основой существования СНГ, а не пресловутая «дружба народов».
Важно еще и вот что. Русская культуру на протяжении всей своей истории постоянно демонстрировала мощный потенциал реформирования. Не случайно, ее самые популярные атрибуты – заемные: храм – из Византии, самовар придуман во Франции, матрешка изобретена в Японии. Шел многовековой отбор того, что предлагали другие культуры, с одновременной его трансформацией, как произошло, например, с византийским храмом-базиликом, символизировавшем человека: тело-голова. В русском варианте вместо одной – пять, десять, семнадцать и даже двадцать три головы! Видимо, это результат особой сверхценности русской культуры, которую вырабатывает на протяжении веков каждая настоящая культура. У американцев – это успех, у европейцев – просто устойчивость жизни, у нас же – эмоции, постоянный поиск эмоционального источника, или, «жемчужины сопереживания» (М. Князева). В этом, возможно, особая миссия русской культуры, которая через своих знаменитых и мало кому известных представителей в разных уголках кавказского мира несла знание об идеях и смыслах западной культуры и уникальности человеческой личности, что способствовало включению Кавказа в единую семью народов мира. Сегодня именно эти, ставшие общими для разных людей, универсальные духовные ценности рождают у многих художников надежду на то, что только культура в силах противостоять разгулу национализма и сепаратизма на Кавказе и объединить враждующие народы.
Вот почему одна из перспектив объединившего нас всех Гуманитарно-культурного центра как раз видится в разработке гуманитарной глобалистики, прогнозирующей альтернативы и повороты будущего в контексте духовно-ценностных инициатив, важных, прежде всего, для нашего локального сообщества. Отсюда вывод: культурная стратегия в регионе должна основываться на обеспечении и гармоничном взаимодействии всех трех культурных потоков (северокавказского, русского и мирового), к которым добавляется также важный срез местных межкультурных взаимодействий. Главным направлением культурно-языковой политики должно быть повсеместное развитие национально-русского двуязычия как единственной формулы обеспечения дальнейшей модернизации и интеграции северокавказцев в общероссийскую культуру, основанную на русском языке, и сохранении местных языков как важного элемента национального самосознания и культурной идентификации. Таким образом, можно принадлежать карачаевской культуре и русской, осетинской и русской, еврейской и русской, чеченской и русской. А можно и не принадлежать, оставаясь в границах исключительно этнокультуры своих предков. Это выбор каждого человека, чаще всего сознательный и самостоятельный, подобный тому, который в свое время сделал Коста Хетагуров, утверждавший, что «осетинскому народу по пути с русской культурой», и потому совершенно искренне призывавший своих соплеменников «видеть и непосредственно наблюдать русскую гражданственность и жизнь, деятельность культурных людей, слышать русскую речь», которая и сегодня в период резкого обострения духовного кризиса – кризиса ценностей – демонстрирует способность стать общим языком в поиске нестандартных путей выхода из создавшегося сложного положения.
В правоте слов К. Хетагурова убеждаешься всякий раз, когда размышляешь о творчестве родившихся на Кавказе писателей, создающих свои произведения на русском языке. К известным еще по позднесоветской эпохе Ф. Искандеру, Ч. Гусейнову, Б. Кенжееву, А. Эбаноидзе, Р. Ибрагимбекову, Ч. Абдуллаеву в конце ХХ века прибавились А. Асриян и Г. Маркосян-Каспер, Д. Эсакия и Д. Иосилиани, В. Варжапетян и И. Гаручава, И. Оганов и С. Чахкиев, М. Гиголашвили и А. Теппеев, Г. Джугашвили и А. Евтых, Р. Гаджиев и Хачилав, А. Черчесов и Н. Джин, Д. Зантария и Л. Цаголова, А. Мамедов и К. Ибрагимов. Каждый из них вслед за И. Бродским мог бы сказать, что жизнь с одним языком для них просто бессмысленна. И тем более, вряд ли кому из них придет в голову видеть в русском языке угрозу полноценному сохранению родного национального языка. На такой трактовке делается нередко преднамеренно негативный акцент, искусственно вычеркивается из памяти исторически сложившаяся и существовавшая на протяжении веков традиция русско-кавказского (армянского, грузинского, осетинского, адыгского и пр.) двуязычия, которая воспринимается любым беспристрастным исследователем как феномен, с положенным в его основу принципом относительно толерантного сосуществования различных культур и языков. И характерное признание Бродского, потрясенного открытием второго языка, касается, пожалуй, именно этого культурного феномена, констатирующего богатство и разнообразие реальности, превосходящей изобразительные возможности любого отдельно взятого языка. Погружение в другой языковой космос, в данном случае – русский, есть абсолютно естественное для художника стремление полнее и многозначнее выразить окружающую реальность. В российском контексте это тем более представляется естественным и где-то предсказуемым, связанным с исторически сложившимся статусом русского языка, поликонфессиональностью говорящих на нем издавна народов и глубинным смыслом самой русской культуры. Думается, что такая оценка русского языка есть признак нравственной ответственности северокавказской художественной элиты за модус существования собственной этнокультурной общности – за ее прошлое, настоящее и за выстраиваемое в настоящем будущее.
ЛИТЕРАТУРА
1. Дугин А. Эволюция национальной идеи для Руси (России) // Отечественные записки. – 2002. – №3. – С.42.
РУССКИЙ ЯЗЫК И РИТОРИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА: КАВКАЗСКИЙ КОНТЕКСТ
Предварим наши заметки таким вот замечанием.
Актуальность заявленной темы продиктована, в первую очередь, провалом государственной политики на постсоветском Кавказе, подтверждением чего стали вооруженные конфликты, беспомощность органов власти, тысячи беженцев, рост преступности и ничтожная цена человеческой жизни. Печальным образом библейское предание о Вавилонской башне, когда Бог отнял у людей «один язык и одинаковые слова», смешал так, «чтобы один не понимал речи другого» (Быт., 11:1 – 9), оказалось скалькированным на Кавказ конца ХХ – начала ХХ1 века. Регион, в название которого издавна вкладывалось представление об имперском могуществе и власти и представлявшим собой в течение семидесяти лет слепок многонационального советского общества – аналога Вавилонской башни, ассоциируется отныне с ее обломком. Вспомним, у Щедрина есть сочинение «Господа ташкентцы», топонимический элемент в названии которого без какого-либо усилия заставляет всплыть в памяти распространенный в представлении российских граждан образ Кавказа. Ташкент взят не как реальный азиатский город, захваченный русской экспансией в Азии, а как метафора самой России - как тот же Глупов. «Наш Ташкент, о котором мы ведем здесь речь, находится там, где дерутся и бьют», - пишет Щедрин. И дальше: «Нравы создают Ташкент на всяком месте; бывают в жизни обществ минуты, когда Ташкент насильно стучится в каждую дверь и становится на неизбежную очередь для всякого существования. Это особенно чувствуется в эпохи, которые условлено называть переходными. Может быть, именно чувствуется потому, что в подобные минуты рядом с Ташкентом уже зарождается нечто похожее на гражданственность, нечто напоминающее человеку на возможность располагать своими движениями (...) Я знаю одно: что никогда, даже в самые глухие, печальные исторические эпохи нельзя себе представить такого количества людей отчаявшихся, людей махнувших рукой, сколько их видится в эпохи переходные. И рядом с этими отчаявшимися сколько людей, всё позабывших, всё в себе умертвивших - всё, кроме бесконечного аппетита!»
И рядом с этой, так сказать, хроникой - история и прогноз. «Конечно, я знаю, что есть какой-то Ташкент, который умирает, но в то же время знаю, что есть и Ташкент, который порождается вновь. Эта преемственность Ташкентов, поистине, пугает меня (...) Мне скажут на это: всему причиной Ташкент древний, Ташкент установившийся и окрепший. Пожалуй, я и на это согласен. Что Ташкент порождает Ташкент - в этом нет ничего невероятного, но ведь это только доказывает, что и пессимисты, усматривающие в будущем достаточно длинный ряд Ташкентов, тоже не совсем не правы в своей безнадежности».
Ну а теперь собственно к теме.
В числе важнейших факторов, препятствующих восстановлению полноценной цивилизованной жизни на Северном Кавказе, является отсутствие современных риторических стратегий в осмыслении и функционировании этнополитического дискурса. Мы все страдаем от хаоса, вандализма, насилия, от безвластия, коррупции, отсутствия инициативы, анархии, от всего того, что удваивает невиданную жестокость людей, наглость мафии и бесчестность нуворишей. Философы, изучающие кризис морали — от Ницше до Хайдеггера, — считают рычагом, который управляет независимым Субъектом, изменение системы ценностей. Никак не уничтожение ее.
Напомним уже ставшее тривиальным: дискурс как самостоятельный объект изучения возник в науке о языке в 60-х годах прошлого века и впоследствии стал едва ли не самым распространенным из смыслосодержащих терминов в междисциплинарных исследованиях. Такому положению в немалой степени способствовало то обстоятельство, что сам термин «дискурс» имеет множество токований. Согласно П. Серно (перечисляем только близкое нам), это и эквивалент понятия «речь», то есть любое конкретное высказывание, и воздействие высказывания на его получателя, и речь, присваиваемая говорящим, в противоположность «повествованию», которое разворачивается без эксплицитного вмешательства субъекта высказывания, и система ограничений, которые накладываются на неограниченное число высказываний в силу определенной социальной или идеологической позиции и т.д. Но, в любом случае, дискурс всегда порождает «текст», то есть обладает смыслопорождающим феноменом. Не исключение, естественно, и этнополитический дискурс, вводя и апеллируя далее к которому, мы будем подразумевать активное выражение ценностных позиций, ориентаций, оценок и взглядов его носителя, представляющее с одной стороны, собой развернутые и четкие высказывания коммуникатора, сделанные для определенной аудитории и характеризующиеся концептуальной чистотой и стабильным употреблением различных политических, экономических, внешнеполитических и этнополитических понятий, и, с другой, изученное методом контент-анализа, который заключается в вычленении из массива информации (содержания публичных высказываний коммуникатора) определенных текстовых индикаторов, являющихся элементами определенных категорий. При анализе этнополитического дискурса нередко прибегают также и к материалам разного рода интервью в СМИ, опросам экспертов, сбору официальной статической информации.
Поясним еще вот что. Обращение к названной в заглавии теме объясняется тем, что уже несколько лет назад нам стало ясно, что если и дальше будет происходить непонимание того, что происходит, какие решения принимаются, то дальше вряд ли вообще станет возможным заниматься своей специальности. И это стало для нас поводом сначала системно заняться анализом официальной риторики, под которой нами понимается в первую очередь язык власти в этой сфере общественной и государственной жизни. Потом стало возможным сформулировать самый важный вопрос: помимо того, что власть говорит, есть то, о чем она не говорит, то есть о системных ограничениях в политике. Есть вещи, которые в силу тех или иных причин являются невозможными, и эта система невозможностей вместе создает коридор, в котором проводится политический курс. Вот почему анализ риторики органично трансформируется в анализ современного этнополитического курса России, позволяя выявить его отношение к основным категориям нынешней политики президента Путина: это демократия как способ развития свободной личности, это суверенитет как способ развития свободной нации и это материальное благополучие, качество жизни людей как социально-экономическое измерение все той же свободы и, конечно же, трактовка концепции борьбы с терроризмом. Связь с риторикой последнего положения очевидна, так как там, где есть системная угроза, а терроризм – это, безусловно, системная угроза, там надо и отвечать системными решениями, где место риторики предопределено изначально, поскольку терроризм питается не только бедностью и не только невежеством, он питается еще и слабостью и незрелостью коммуникативных процессов в институтах гражданского общества. К сожалению, никто особенно об этом и не думал, и не печалился, хотя предельно ясно одно: пока мы все вместе не договоримся и не придем к какому-то общему пониманию, что с нами случилось за последние 20 лет, мы никогда не поймем, куда мы пойдем.
Одним из редких примеров актуальности и эффективности конструирования этнополитического дискурса с помощью риторической парадигмы представляет научная деятельность С. В. Кардинской, уже несколько лет проводящей в Удмуртии этносоциологические исследования, направленные на выявление специфики дискурсивных практик в сфере этничности и этнополитики. Однако в целом, повторим, состояние дел в изучении обозначенной проблемы следует признать плачевным, и причина тому, во-первых, «провинциализация» научного мышления, признак которого - часто незаметное для самих исследователей быстрое втягивание в идеологизированные дебаты, которые в лучшем случае придают оттенок серьезности различного рода политическим прожектам. Такое утверждение, к сожалению, является определяющим и для российского этнополитического дискурса, где доминирует все та же «провинциализация», лучшей показатель которой – сведение всей многосложности проблем к обсуждению одной суверенности. Кто сегодня будет возражать против недопустимости подавление этнического самосознания в национальных районах государства? Кто возьмется отрицать необходимость внимательного изучения сегодняшних представлений кавказских народов о своем прошлом, определения степени популярности таких взглядов в обществе. И, наконец, кому еще не доступно понимание того, что исторический опыт свидетельствует, что пробуждение национального самосознания значительно опережает рост общей культуры, что приводит к воинствующему национализму, недоверию и вражде между народами.
Образчик такой риторики, контекстуально направленной против России, читаем в одном из недавних номеров журнала «Литературная Грузия», посвященной, как утверждается в редакционной статье, «братской дружбе грузинского и северокавказских народов». Цитирую: «Ради свободы наши соседи горцы пожертвовали многим. Они хорошо знают ей цену, и раз уж дается сегодня возможность свободной жизни, ее они никому не уступят... Каждый свободолюбивый человек должен сочувствовать такой устремленности наших соседей. Наша страна с особенным одобрением приветствует самоопределение горских соседей. Грузинский народ никогда не был врагом чужой свободы. Грузинский народ заинтересован, чтобы справедливые требования каждого его соседа были удовлетворены и всем была дана возможность свободного развития. По отношению к кавказским горцам грузинский народ испытывает только добрососедское расположение. С горцами у него ни сейчас, ни в будущем нет и не будет каких-либо спорных и нерешенных вопросов». Номер вообще примечателен закамуфлированными антируссскими пассажами, типа «художественным воплощением идеи свободного от имперского порабощения Кавказа служат рассказы мэтра грузинской литературной молодежи 20-х годов Григола Робакидзе и играющего во многом схожую роль - но уже с 60-х годов прошлого века – Акакия Гацерелиа». Или «кавказская тема» … в русской поэзии в совершенно новом ракурсе рассмотрена в глубокопрофессиональном исследовании молодого профессора университета в Беркли, Калифорния, США Харши Рама… ставшего уже нашим «традиционным» автором» Заметьте, это о том самом Х. Раме, который еще в 1998 году в этом же журнале опубликовал явно провокационную статью «Кавказские пленники: Культурные мифы и медиальные репрезентации в чеченском конфликте» (НЛО, №34). Тогда американец особо подчеркивал, что огромное влияние на риторику первой чеченской войны оказали литературные мифы, созданные в произведениях XIX века (читай: Пушкина, Лермонтова, Толстого), в которых чеченцы предстают «дикарями», а русский народ — «порабощенным».
Только что упомянутая «Литературная Грузия», кстати, замахивается – мало не покажется! - проследить ретроспективу исторических связей Грузии с северокавказскими народами, выявить следы влияния грузинской цивилизации в памятниках материальной и духовной культуры наших северных соседей, и, наконец, уже в самой грузинской действительности, – в традициях, этнографии, быту, в портретах исторических и литературных героев вычленить тот «кавказский ген», который дает основание многим исследователям говорить о глубинной общности народов, населяющих обе стороны Кавказского хребта, и неповторимом этнопсихологическом феномене уроженца Кавказских гор. «Вообще говоря, наши горцы не похожи на горцев Чечни, Дагестана, - не соглашается с такой программой журнала Арчил Сулакаури, грузинский прозаик и популярный детский писатель, родом тушин. - Наши в долгие зимние вечера, ночами читают. И не только грузинскую, но и русскую литературу. Они знают наизусть поэмы Пушкина, Лермонтова. Романы Толстого читают».
Жившая до развала Союза в Джавари жена приглашенного на строительство местной ГЭС инженера Нина Бойко в определенных ею самой «записках обывателя» (Прощай, Сакартвело! // «Наш современник», 2005, № 5) приводит ксенофобские штампы грузинской интеллигенции («Всех русских надо выселить!»; «Позанимали лучшие места, лучшие квартиры»; «Русские хотят нас уничтожить! Они мстят нам за Сталина! Я боюсь русских!» «Армия, пишет русская беженка, - вдруг тоже стала русской. В стране из пятнадцати республик, оказывается, служили в армии только русские. И только у русских так много жестокости, только русские могли бить старух саперными лопатками по головам!».
Будем искренни: и при советской власти русско-грузинские отношения были не слишком дружественны. В ноябре 1956-го Александр Вертинский, находясь в Тбилиси на гастролях, писал своей жене: «Я немного боялся этой поездки. Говорили и рассказывали разные ужасы… Но меня это не коснулось… А настроение публики здесь далеко не в нашу пользу… Один грузин сказал мне: “Вы единственный русский артист, которого мы любим и слушаем со слезами на глазах». Георгий Владимов вспоминал о необъяснимой взаимной неприязни (даже о ненависти!), существовавшей между русскими и грузинами в Кутаиси, где он жил в годы Великой Отечественной. «Обоюдная чужесть и вражда окружали нас в этой стране», — писал автор «Верного Руслана». Впрочем, и отношение грузин к другим своим ближайшим соседям были далеко от истинно дружеского. Бог с ним, с кутаисским пролетариатом! Вот Станислав Рассадин недавно в «Неполитических заметках» («Новая газета», 2004, 31 мая) вспоминал, как когда-то в доме своего друга Натана Эйдельмана он встретил знаменитого философа-гуманиста Мераба Мамардашвили, который, тем не менее, явственно поморщился, услыхав, что сейчас придет Фазиль Искандер. В «Дневниках Натана Эйдельмана», свидетельствует Рассадин, есть удивленная запись, сделанная в тот же самый день и касающаяся Мераба, который никак не хотел понять, «почему абхазы не должны подчиняться грузинам».
Вместо комментария напомню о позиции академика В. Тишкова, который в одной из своих работ выставляет кавказским интеллектуалам серьезнейший счет в кавказской драме конца ХХ века. Именно они, уверен академик, совершают «акт речи» - объясняют ситуацию и вырабатывают предписания к действию, - хотя сами редко оказываются среди исполнителей своих проектов, а тем более среди их жертв. Ими тратятся явно не пропорциональные усилия на второстепенные для развития общества занятия, например, такие, как доказательства древности и уникальности каждого народов, их великие свершения и страдания, на подсчет и дележку культурных героев, на пропаганду «возрожденческих» доктрин и поиск внешних врагов. Напротив, частные интересы, подсознательную природу мотивации деятельности человека, его психологию изучают слабо в сравнении с одержимость по установлению групповых культурных различий, даже когда последние явно малозначимы. Символично, что ни один из изображенных в прозе 50-90-х годов кавказских интеллектуалов не обладает способностью к точному анализу и к выверенным политическим рекомендациям, которая не менее важная, чем способность реформировать, скажем, экономику. Но зато не счесть среди персонажей полуобразованных догматиков, окруженных часто вооруженными последователями, увлеченных нереализуемыми проектами и несостоятельными идеологиями.
Еще один пример (хотя и близкий по пафосу) современной риторической практики наших оппонентов представляет статья Анны Бродски, русский перевод которой опубликован в «Новом литературном обозрении». Несмотря на заголовок, работа на самом деле посвящена не литературе. Ее главная тема — русский национализм, русская нетерпимость к инородцам, то бишь русская ксенофобия. Русская же литература, оказывается, повинна в том, что порождает ксенофобские, в данном случае — античеченские мифы. «Полноте, - пишет по этому поводу один из рецензентов, никогда прежде незамеченный ни в каком русофильстве. - Не обижайтесь, но скажите честно: вы русский-то язык знаете? Ну что, скажите на милость, античеченского вы у Пушкина отыскали? Он и слова «чеченец» не знал, равно как и его читатели. Русские, если они только не служили на Кавказе, обычно называли всех кавказцев «черкесами», а то и «татарами», и просто «горцами». Есть, конечно, и у нашего классика неполиткорректные фразы, и не только в малоизвестном рядовому читателю «Путешествии в Арзрум», но и в хрестоматийной «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях», где братья предполагаю отсечь у татарина «башку с широких плеч» и «вытравить из леса Пятигорского черкеса». Но говорить, основываясь на этих строчках, о том, что Александр Сергеевич разжигал межнациональную рознь, по меньшей мере, странно. Странно, если не сказать дико, обвинять в этом и Льва Толстого. К теме кавказской он не один раз возвращался, но ни в ранних кавказских рассказах («Набег», «Рубка леса»), ни в «Казаках», ни тем более в «Хаджи-Мурате» он не изображал кавказцев «дикарями». «Если бы Харша Рам и Анна Бродски, - делает вполне резонный вывод наш критик, - прочли эту повесть (а я убежден, что они ее не читали), то они наверняка избежали бы такой глупости».
Роль разжигателей межнациональной розни вольно или невольно выполняла риторика наших либералов. Не странно ли, что люди, на любую выходку общества «Память» реагировавшие кампанией по борьбе с «русским фашизмом» (правильней — с русским этническим национализмом), не только не осуждали литовских, грузинских, латышских националистов, но сочувствовали им. Зато на трагедию русских в «ближнем зарубежье», кажется, не обратил внимания ни один влиятельный правозащитник, ни один видный деятель «Демократической России». «Где были эти честные, бесстрашные и совестливые люди, – справедливо вопрошает В. Заславский («Неприкосновенный запас» №5, 2002), имея в виду А. Политковскую, В. Новодворскую, С. Ковалева, - когда в Чечне начались массовые нарушения прав человека, а проще говоря — безнаказанный бандитизм, грабежи, насилия, убийства, мгновенно приобретшие яркую националистическую окраску. Чеченцы грабили и убивали русских. Тысячи русских вынуждены были оставить родную (давно уже родную и русским, и чеченцам) землю, бросить или продать за бесценок свои дома, квартиры, чтобы только спасти себя и своих детей от гибели. Почему же тогда никто не поднял свой голос в их защиту?» Действительно, где были представители интеллектуальной элиты, когда в одной из телевизионных передач был показан сюжет о русском, много лет прожившем в рабстве у чеченцев. Чудовищные, отдающие средневековьем картины кавказского рабовладения (жизнь в яме, отношение к рабу — хуже, чем к скотине и т.п.) не вписались в стройную картину мира российского интеллигента девяностых годов, где зло непременно ассоциировалась с «империей, «имперским мышлением», а сепаратисты, будь то литовцы, грузины или чеченцы, носили романтический ореол борцов «за нашу и вашу свободу». О сюжете забыли, хотя рабовладение в Чечне не исчезло и в наши дни. А ведь цивилизованное решение русского вопроса было вполне реально. Возможно, и в самой России не возникло бы столь агрессивной кавказофобии. Почему же этого не произошло? На наш взгляд, беда заключается в той самой риторике этнополитического дискурса, с доминировавшем в нем равнодушии, в первую очередь, к судьбам собственных соотечественников.
В разделе:
- Архангельский Александр "Какой ты хочешь быть, Россия?"
- Болдырев Юрий "Вместе с карателями?"
- Болдырев Юрий "Декоммунизация или криминализация?"
- Болдырев Юрий "В будущее нас ведут верные ельцинцы?"
- Булкаты Игорь "Апология мудрости, или придите к нам на могилу"
- Веллер Михаил "К последнему шансу"
- Галазов Ахсарбек "Гражданское общество - категория культуры"
- Галазов Аслан "Культура, вперед!"
- Гамзатов Расул "Наступило время шарлатана"
- Капица Сергей "О глобальных проблемах"
- Макаров Анатолий "Когда нас станет меньше"
- Макаров Анатолий "Налево или направо"
- Поляков Юрий "Лезгинка на лобном месте"
- Попцов Олег "В рай только по записи"
- Попцов Олег "Осатаневшая благость"
- Попцов Олег "Модернизация оптимизма"
- Филатов Сергей "Словесность в переходную эпоху"
- Интревью с Николаем Петраковым. "Ускользающая модернизация"
- Интервью с Олегом Богомоловым . "Капитал справедливости"
- Гованс Стивен "Галерея мерзавцев Ноама Хомского"
- Гованс Стивен "Продовольтственный кризис и неомальтузианство"
- Каралис Дмитрий "Свобода падения"
- Экснер Андреас "Фукусима и капитализм"
- Кокшотт Пол и Коттрелл Аллин "К новому социализму"
- Петрас Джеймс "Капитализм и классовая борьба"
- Гованс Стивен "Чьи права?"
- Джикаев Шамиль "Мы все - рабы олигархической эпохи" (интервью)
- Гранин Даниил "Отступать некуда" (интервью)
- Шульженко Вячеслав "Русский Кавказ"